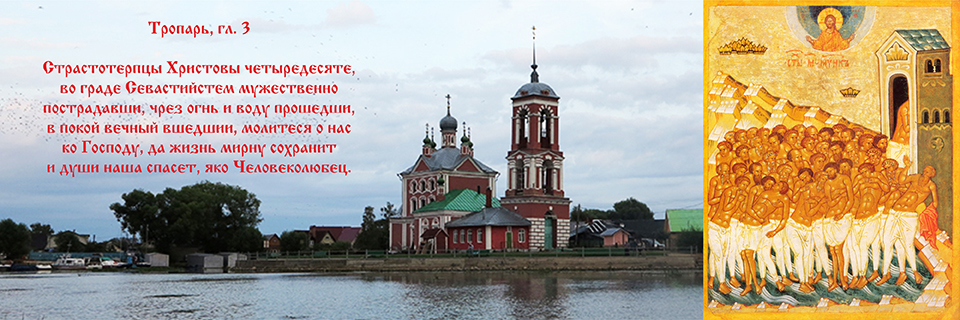Прочитанная мною недавно автобиография моего дедушки (по жене) своею правдивою задушевностью и картинностью изложения произвела на меня отрадное и неизгладимое впечатление. Потому ли, что покойный мой дедушка вырос в духовной семье, как и я, или потому, что те же духовные учебные заведения — училище и семинария — по духу своего воспитания внесли много общего как в его, так и в мою жизнь (хотя между мною и дедушкой прошел период времени сравнительно большой, лет 55), — не знаю, что сказать на это положительного, но несомненно то, что сделанное дедушкой описание своей жизни иными страницами близко касалось моей души и как будто разбудило в ней воспоминания о моих давно прошедших днях. И я действительно вспомнил тогда, с большой приятностью вспомнил, свою собственную жизнь, а особенно — в детстве и отрочестве. Впрочем, последнее, говорят, так естественно людям немолодых лет — вспоминать свою молодость. Вот тут-то, при воспоминаниях невозвратного, но хорошего и бесценного времени, и зародилась во мне мысль, по примеру дедушки, оставить после себя на память детям свою рукопись о том, как я жил в семье родной, в отчизне милой, дорогой, о том, как рос: среди каких людей, каких лесов, каких болот, каких забав, каких трудов, потом, как я учился, как женился и как заделался священником, потом и т. д. и т. д., — как я формировался и во что вылился к теперешним годам.
Прочитанная мною недавно автобиография моего дедушки (по жене) своею правдивою задушевностью и картинностью изложения произвела на меня отрадное и неизгладимое впечатление. Потому ли, что покойный мой дедушка вырос в духовной семье, как и я, или потому, что те же духовные учебные заведения — училище и семинария — по духу своего воспитания внесли много общего как в его, так и в мою жизнь (хотя между мною и дедушкой прошел период времени сравнительно большой, лет 55), — не знаю, что сказать на это положительного, но несомненно то, что сделанное дедушкой описание своей жизни иными страницами близко касалось моей души и как будто разбудило в ней воспоминания о моих давно прошедших днях. И я действительно вспомнил тогда, с большой приятностью вспомнил, свою собственную жизнь, а особенно — в детстве и отрочестве. Впрочем, последнее, говорят, так естественно людям немолодых лет — вспоминать свою молодость. Вот тут-то, при воспоминаниях невозвратного, но хорошего и бесценного времени, и зародилась во мне мысль, по примеру дедушки, оставить после себя на память детям свою рукопись о том, как я жил в семье родной, в отчизне милой, дорогой, о том, как рос: среди каких людей, каких лесов, каких болот, каких забав, каких трудов, потом, как я учился, как женился и как заделался священником, потом и т. д. и т. д., — как я формировался и во что вылился к теперешним годам.
Сознаюсь, что это задача для меня мудреная и новая по части пера, но ведь и назначение моего труда делается исключительно для милых детей и тех внуков и внучат, коим только если Бог приведет быть и видеть меня! А дети должны простить отца за то, что найдут в моем труде плохого. Любовь и искренность души, на что я старался по своим силам во всю жизнь обращать особое внимание при обращении с детьми и чужими людьми, должно не покидать меня во все время предпринимаемого мною труда.
Но прежде чем начать свою биографию, мне необходимо уклониться несколько в сторону. Мне надо сказать несколько слов о том некрасивом в качественном отношении уголке нашей губернии, где я родился и где пробуждались первые мои сознательные шаги к жизни и окружающей меня обстановке.
Это мое замечание, может быть, и заставит детей отнестись более снисходительно к оценке допущенных мною в жизни многих ошибок как по отношению к семье, так и по отношению ко всем людям, с которыми мне приходилось соприкасаться в частной и пастырской жизни по долгу.
Родился я в селе Пустошах, Судогодского уезда, Владимирской губернии. Это было самое дальнее и закинутое село, как от губернского, так и от уездного города, — верстах в восьмидесяти от того и другого, среди лесов, среди болот. С двух сторон села на сотни верст тянулись непроходимые леса — хвойные и лиственные, в коих тогда водилось много всяких зверей, птиц и пресмыкающихся гадов. С других же двух сторон шли болота на десятки верст, которые в весеннее время представляли, как бы обширное озеро, но только обросшее мелким и редким березняком. Богатую добычу птиц и зверей дали бы эти леса сельскому обывателю, если бы только были тут охотники-ружейники. Впрочем, надо сказать, что большая часть тех лесов принадлежала в то время казне, где возбранялось охотиться. Помнится, был только в то время правомочным один казенный стрелок — сторож того леса, и больше никого на все Пустоша. А потому и неудивительно, что очень многие, даже и детского возраста, нередко, собирая грибы или ягоды, сталкивались носом к носу с нежеланным косолапым Мишкой, а про волков нечего и говорить: их было так много, и редкий их не видал! По зимам же нередко находились медвежьи берлоги. В этих случаях обычно давалось тогда знать передовым того времени людям — бывшим помещикам, фабрикантам и т. п., которые и съезжались тогда для облавы; сзывали народ, окружали берлогу, а сами с деревянной пикой и ружьями шли на зверя.
Мне памятны многие интересные случаи из этой охоты, но рассказы о них сейчас не входят в план моей темы, — быть может, и расскажу, когда после, как справлюсь с своим прямым делом.
Итак, моя родина — Пустоша, а другое название ей «Гридино», — но последнее почти и неизвестно пустошенцу: принято всеми называть Пустоша, и это название как нельзя лучше, по-моему, хорошо определяет все содержимое им. Историк многое мог бы сообщить интересного и прямо-таки захватывающего душу о непросвещенном, невежественном, суеверном и в то же время добром сердцем и чутком ко всему хорошему и святому тогдашнем пустошенце.
Остаток той суеверной старины еще и до сих пор держится в народе моего села, и особенно в людях старого возраста. В этом я убедился в нынешнюю мою летнюю поездку на родину, где у меня еще живет одна сестра Анна, старше меня по рождению.
По рассказам старожилов, в то же время ссылающихся на веру своих предков-дедов и прадедов, это место, Пустоша, было когда-то нечистым. Здесь жила чертова сила, которая и проказила над крещеными людьми. Этих чертей, в красных шапочках-ермолках с кисточками (как мне, бывало, в самые юные годы говорили даже в семье, в которой я рос), многие видали, как они, по заходе солнца, выходили из болота и страшно-страшно гоготали: го-го-го, го-го-го! Многие также видали, как нечистая сила пролетала над селом и пролетала через трубу в дом какой-нибудь убитой горем, безутешно плачущей женщины (называли даже и имя) и здесь в доме уже обращалась в настоящего человека — мужа или сына, недавно перед тем умершего, о котором и скорбела несчастная вдова или мать, — и вот уже здесь на свидании они и целовались, и миловались. И таких бесовских наваждений было много-много сделано крещеному человеку! И вот, чтобы не было доступа этой вражьей силе к людям, тогда и опахивали село кругом на девицах. Такие рассказы в детстве я слышал о селе Пустошах.
Вот какие дела творились на моей, все ж таки милой, отчизне! Недаром я много лет и боялся, когда наступят сумерки или ночь, одному оставаться в доме, — а когда нужно было по необходимости выйти во двор (куда царь пешком ходит), то меня всегда провожали взрослые.
Сильна была вера у пустошенцев и в разных колдунов, которые много сделали людям зла, а многих свели и в мать сыру землю, в могилу. И я сам видел одного из таких колдунов, встречался с ним не меньше других пустошенцев. Фамилия ему была, помню, Швечихин (имя забыл). В нем-то вот и сидела вражья сила: он и килы напускал, он и разные болезни посылал, кому захочет. Для него достаточно было ударить рукой по плечу или даже просто положить руку на другого, и была с тем человеком «болесть» — тоска или какое-нибудь горе. Вот и верили во все это суеверные люди и страшно боялись его. Ему воздавали при встречах и низкий поклон, и ласковый взгляд, а когда приходилось иметь какую-нибудь нужду в нем, то и изобильное угощение. В действительности же это был самый обыкновенный человек, но только по смышлености и сообразительности стоящий выше других. Я помню, он не дурак был и выпить, когда представлялась возможность. И вот тут-то, в известных градусах, он и любил морочить людей, похваляясь какой-то необыкновенной в нем силой. Впрочем, и неудивительно, что народ верил подобным шарлатанам: он был почти весь неграмотный, сидел больше дома; селений других ближе пятнадцати верст не было, кроме, в версте от села, одной деревушки Чернятино, Пустошенского же прихода. Школа открылась в селе только за мою память 1876 или 1877 года. Единственными рассадниками грамотности в то время были отец мой — дьячок, как выражались в то время, да сосед пономарь, у которых в зиму каждогодно обучалось человек по пяти, по шести. Образованных людей в селе — ни души.
Никуда не годится дело обстояло и по медицинской части. Ни доктора, ни фельдшера не было. Один доктор и один фельдшер был на целую обширную волость со многими селениями. Если приедет врач раз в месяц в село, то это была благодать, вовсе хорошо, но приезды были гораздо реже. Но и опять-таки, иди тогда к нему за лекарством верст двадцать, где он жил и где была аптека, а большее прибегали в лечении к народным средствам. Но зато и бывали и такие годы, когда разгуливалась какая-нибудь заразная эпидемия, вроде тифа, скарлатины или дифтерита, — мать ты моя родная! …