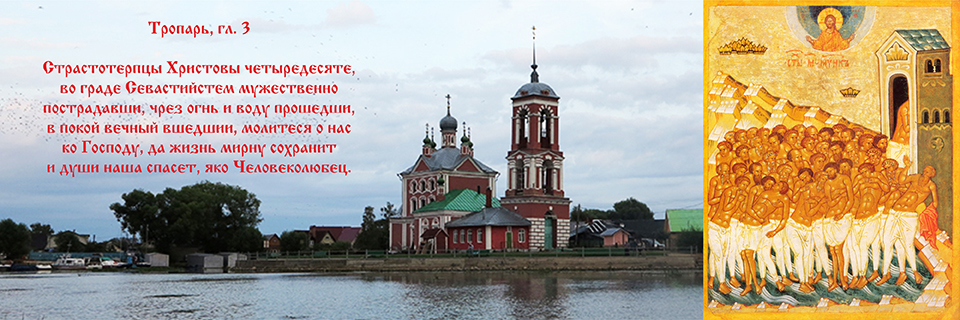Мои детские годы в семье до Духовного училища Отец мой, дьячок (называя по-старинному) вышеуказанного села Пустошей — Андрей Стефанов Елховский был родом из села Елховки, Суздальского уезда. Он был женат вторым браком, и когда я явился на свет Божий — 26 февраля 1869 года — у него уже была большая семья. От первой его жены — Ирины — были дети: Любовь и Мария», и от второй — Евдокии: Арсений, Анна, Иван, Михаил, Евгений — я, Василий и Павла. Своих братьев — Василия и Ивана — мне не привелось видеть: они померли прежде, чем я стал узнавать себя и мир Божий. Отцу моему не дал Бог счастья и во втором браке. На шестом году моей жизни умерла от чахотки и вторая его жена тридцати шести лет. Около времени смерти моей маменьки только и воскресает во мне смутная память о своей детской жизни в семье среди братьев и сестер. О том, как ко мне относилась маменька, я ничего не помню. О ней же я помню только то, как тятенька переносил ее больную через сени из кухни в горницу для соборования. Помню еще, как она умирала, лежа в постели на полу. Я тогда с братом Михаилом и сестрой Анной стояли в ее ногах перед ее глазами. Тут она нас всех благословила, а мы плакали. Умирала она тяжело. В предсмертные страдания минутами были у нее какие-то странные видения. Хотя она и узнавала нас, называя правильно по именам, но в то же время и говорила многое непонятное для нас: «Аннушка! Возьми топор и отруби мне голову: мне так тяжело, а тогда будет легче… Бейте, бейте змей-то, я уже отрубила одной голову, а все они семиглавые… Миша, уйди ты с моих глаз, а Женя пусть стоит здесь…» И брат Михаил отошел вперед. Но скоро она замолчала и утихла навеки. Кто-то из родных подошел к ее голове, послушал дыхание, но она уже была мертвой. Плакали все много, а особенно отец (В семье у иных был обычай в это время выходить за ворота дома: душу провожают). Плакал и я, но больше на других глядя: цены в утрате матери я, конечно, по детству тогда не сознавал. Приходили многие и из соседей посмотреть на маменьку. Вечером по ней читал Псалтирь свояк моего отца — Петр Иванович Каменский, тоже дьячок села Палищ Рязанской губернии, с длинной косичкой на голове. На ночь пришли ко мне с братом Михаилом соседние товарищи, наши сверстники по годам, и мы с ними тут в постели, где нас положили всех четверых — на полу, такую возню затеяли и смех, что нас уже стали другие унимать.
Мои детские годы в семье до Духовного училища Отец мой, дьячок (называя по-старинному) вышеуказанного села Пустошей — Андрей Стефанов Елховский был родом из села Елховки, Суздальского уезда. Он был женат вторым браком, и когда я явился на свет Божий — 26 февраля 1869 года — у него уже была большая семья. От первой его жены — Ирины — были дети: Любовь и Мария», и от второй — Евдокии: Арсений, Анна, Иван, Михаил, Евгений — я, Василий и Павла. Своих братьев — Василия и Ивана — мне не привелось видеть: они померли прежде, чем я стал узнавать себя и мир Божий. Отцу моему не дал Бог счастья и во втором браке. На шестом году моей жизни умерла от чахотки и вторая его жена тридцати шести лет. Около времени смерти моей маменьки только и воскресает во мне смутная память о своей детской жизни в семье среди братьев и сестер. О том, как ко мне относилась маменька, я ничего не помню. О ней же я помню только то, как тятенька переносил ее больную через сени из кухни в горницу для соборования. Помню еще, как она умирала, лежа в постели на полу. Я тогда с братом Михаилом и сестрой Анной стояли в ее ногах перед ее глазами. Тут она нас всех благословила, а мы плакали. Умирала она тяжело. В предсмертные страдания минутами были у нее какие-то странные видения. Хотя она и узнавала нас, называя правильно по именам, но в то же время и говорила многое непонятное для нас: «Аннушка! Возьми топор и отруби мне голову: мне так тяжело, а тогда будет легче… Бейте, бейте змей-то, я уже отрубила одной голову, а все они семиглавые… Миша, уйди ты с моих глаз, а Женя пусть стоит здесь…» И брат Михаил отошел вперед. Но скоро она замолчала и утихла навеки. Кто-то из родных подошел к ее голове, послушал дыхание, но она уже была мертвой. Плакали все много, а особенно отец (В семье у иных был обычай в это время выходить за ворота дома: душу провожают). Плакал и я, но больше на других глядя: цены в утрате матери я, конечно, по детству тогда не сознавал. Приходили многие и из соседей посмотреть на маменьку. Вечером по ней читал Псалтирь свояк моего отца — Петр Иванович Каменский, тоже дьячок села Палищ Рязанской губернии, с длинной косичкой на голове. На ночь пришли ко мне с братом Михаилом соседние товарищи, наши сверстники по годам, и мы с ними тут в постели, где нас положили всех четверых — на полу, такую возню затеяли и смех, что нас уже стали другие унимать.
Отпев в церкви я представляю плохо, но хорошо помню, как глядел в вырытую могилу, в которую поставлено было два гроба, один большой с маменькой, а другой в головах ее, маленький с покойной сестрой Павлушей. Бедная моя сестренка Павлуша! Она умерла от недогляда нас — старших, шаливших тогда вместе с ней на печи: упала с печи и шибко разбилась. Проболела четыре-пять дней и за неделю до смерти маменьки ее похоронили. И когда разрывали могилу для маменьки, ее гробик выставляли наверх, а потом после отпева матери и положили их одну с другой рядом.
Вечная вам память, мои дорогие!
На погребении маменьки старшего брата Арсения дома не было: он в то время учился во Владимире. Впрочем, едва ли его и оповещали о том. Почты в то время никакой не было ближе Судогды (80 верст). И только спустя много времени, раза два в месяц тогда приходилось сельскому сотскому ходить на почту за письмами в Судогду через волостное правление, куда и приносились письма для всей волости. Ходили раз в неделю по очереди три села. При таком почтовом сообщении для бедняков, к числу коих принадлежал и отец, и немыслимо было своевременно, даже и о столь важных случаях, как смерть близких людей, извещать отсутствующих. Я за все двенадцать лет ученья во Владимире ни одного письма не получил почтой. Были очень редкие сообщения только при особой оказии, приезжавшими или приходящими в город. А то целые учебные трети иногда не приходилось слова слышать о своей родине. Полагаю, что и Арсений в то время не был извещен: когда он приехал на Пасху домой, помню, сел на лавке и очень плакал.
К семейству же нашему с некоторого времени, кроме нас, братьев и сестер (Любовь, Мария, Арсений, Анна, Михаил и я — самый младший), принадлежала еще наша няня. Когда она окончательно вселилась в дом к нам, я не помню. При жизни маменьки, а особенно когда хворала она, няня только временами (как мне говорили) ходила к нам нянчить нас и убираться по хозяйству. Имя ее было Матрена, по батюшке Прокофьевна; прожила всю жизнь в девицах. В молодые девичьи годы она, как и все того времени крестьяне были крепостные, принадлежала одному помещику. Село тогда разделялось между двумя господами, почему и до сих пор в нем два общества: Глебовское и Брантовское (вероятно, по названию господ). Вот когда пришла пора для Матроны выходить замуж, то барин помещик и хотел было ее устроить за какого-то своего крепостного жениха. А Матрена-то была не дура: «За нелюбого не пойду, — говорит, — а тем более насильно, помимо воли…» Стала по людям хлопотать, как бы выйти из-под опеки такого благодетеля, потратила на это немало денег и в конце концов добилась своего; приписалась к мещанству города Судогды, и своему благодетелю таким образом навесила нос — ушла от него.
Правда, у нее, очевидно, не было и когда бы то ни было желания выйти в замужество. Настроения она была благочестивого и богобоязненного. С молодых лет начала ходить по святым местам: была и в Новом Иерусалиме, была и в Киеве у Печерских угодников, была и в Соловецком монастыре у Зосимы и Савватия, — а в свой губернский город, бывало, каждогодно ходила на 21 мая на встречу Боголюбовской иконы Божией Матери, которую в этот день приносили всегда из Боголюбова монастыря. Дома она часто ходила к службе церковной и выходила из храма не прежде, как справится там духовенство со всеми заказными молебнами и панихидами прихожан. Лишившись матери в молодых годах, я всецело обязан был няне в уроках религиозно-нравственного воспитания. Она всему меня учила: учила молиться, ходить в храм, почитать родителей, соблюдать праздники, посты и т. п., на все обращала внимание, что, по ее понятию, было противно совести и Богу. От нее никогда нельзя было слышать запальчивого или ругательного слова; сама миролюбивая и незлобивая, она хотела, чтобы и другие были такими же. О всех-то нас, детях, она заботилась и болела душой так, как поступает редкая любящая мать.
Мне особенно памятны ее приемы, которые она любила применять, приучая нас ходить к утрени (мне приходится часто говорить «нам» — это я имею в виду брата Михаила, с которым был больше других душевно связан как по годам, так и по ученью в одно и то же время в сельской школе и во Владимире): «Робяты! Встанете ли вы скоро-то? Ведь вы придете туда к шапошному разбору, как вы Бога то прогневляете, что не встаете? Ангел-то Хранитель, знать, отступился от вас, он плачет об вас, а анчутка-то, анчутка (враг) только радуется этому, это он вам на ухо-то шепчет: «Не вставайте, не слушайтесь, не ходите…»» Пройдут минуты две-три, и снова подобное начнет твердить; так, тяжело поднявшись с постели, и пойдешь, бывало, в храм. Очень редко удавалось просыпать смолода. Родителей у няни в это время уже не было: давно умерли, да и братьев и сестер ни одного не осталось. Мысли об этом одиночестве ее часто тревожили: «Кому я буду нужна при старости? Случись болезнь, кому послужить и походить за мной?!» И вот сидит, бывало, за каким-нибудь легким ручным делом и начнет причитать голосом, как причитают на могилах родные погребенных: «Уж ты родима моя, родима матушка! Ты зачем меня покинула одинокою, сиротою горькою? Ох!» А у самой слезы-то, слезы-то так и льются! Так искренно и глубоко плачет, что и посторонний, глядя на нее, может заплакать. Удивительно, как человек может прочувствовать и пережить сердцем своим такие моменты, когда уходит в мысли о себе! Скажете: это неискренно, рисовка? Перед нами-то, детьми, рисовка? Нет, тут нужна особая мягкая, чувствительная и отзывчивая душа! Именно так я и понимал ее. За то мы любили ее не меньше отца.
Она была и трудолюбива: во всяком деле была первая, все хозяйство лежало на ней. Управляться домом тогда было некому, сестра Анна была молода, а другие, старшие, повышли замуж. Своим примером к труду и уменьем обращаться с нами она и тут сумела нас втянуть и приучить к работам и делам всякого рода. Так как мой отец был очень беден и не имел возможности иметь на столе белый хлеб или баранки, так эта самая няня купит, бывало, на свои сбережения баранок, запрет их в свой сундук и, когда ей вздумается, ими баловала нас. А когда к спеху и ко времени нужно было приготовить или закончить какое-нибудь дело, так тут она прямо-таки подкупала ими нас. «Робяты! — скажет, — ныне надо сено пересушить и убрать, пока за вёдро, так старайтесь, не ленитесь: вечером дам вам по баранке!» И вот, бывало, до упаду и трудишься, работаешь с утра до ночи за одну баранку. И как вкусна и дорога была тогда нам эта баранка, когда мы ее сокрушали: настоящий был праздник у нас! И так мало-помалу все деньжонки свои она на нас иссорила, помогая часто и отцу своей подачкой на содержание нас во Владимире. Правда, она сумела оставить, приберечь несколько рублей и на свое погребение: передала для сей цели перед смертью отцу рублей тридцать пять серебром и двадцать пять рублей, завернутые в холст, кредитными билетами старого образца, которые в то время уже и не ходили; пришлось хлопотать через министра финансов о замене их новыми, годными к делу.
Умерла она в старых годах, около восьмидесяти пяти лет, раньше тятеньки. Я был уже тогда священником. К сожалению, мне не пришлось быть почему-то на ее погребении, что-то меня задержало в приходе, а пожалуй, что и не известили меня тогда вовремя: железной дороги тогда еще не было, значит, и телеграммы подать было нельзя. Но на сороковой день ее я приезжал на родину, отслужил по ней обедню, после которой вместе с приглашенным тамошним причтом помянули ее, по обыкновению, поминальной трапезой. Тяжело было, приехавши в свой родной дом, первый раз не встретить ее, где она, бывало, всегда с радостью и большими слезами встречала меня. Поплакал я тогда и, когда несколько успокоился, пошел с отцом на могилу ее и здесь поклонился до земли ее праху, благодарный за ту любовь и то добро, которое я видел от нее в течение всей своей жизни. Прости мне, моя дорогая и милая няня, что я так близко коснулся твоей земной тени. Ты давно отошла от земли, у тебя окончены расчеты с землей, ты только душою своей любящей теперь соприкасаешься к нам, а я дерзнул в своих воспоминаниях снова низвести тебя опять до земли. Но это я сделал с тою целью, родная, чтоб твой облик земной, в котором себя ты явила в сей жизни, мог послужить уроком для многих».
Первая моя память о няне совпадает с тем временем, когда я лежал, весь горел в какой-то болезни. По всей вероятности, это было до смерти маменьки, но когда она уже была сильно не здорова. Почему-то я в то время лежал больной не в своем доме, а у одной родственницы няни — Пелагеи, где няня и ходила за мной, а в своем доме, значит, при больной маменьке, за мной некому было ходить; иначе не могу объяснить, почему меня из своего дома проводили в чужой.
Здесь эта самая Пелагея, помню, клала уголек в воду, а, может быть, скатывала с него воду, но только этой самой водой она меня после вспрыскивала изо рта и говорила при том, что я хвораю «с глазу». Еще не поправившегося вполне от болезни няня водила меня отсюда в один праздник к обедне. Стоял с ней, но больше сидел у задней стены храма, сзади народа, а потом она повела меня, когда нужно было, причащать, ближе к амвону. Здесь на клиросе я увидал брата Михаила, и оба к взаимному удовольствию улыбнулись.
Другой раз в эти годы я хворал в своем доме, когда и няня у нас уже была как свой человек. Маменьки в живых уже не было. Странная у меня тогда была какая-то болезнь, и была она только по ночам. Началось с того, что мне ясно в то время показалось, когда я в ночь лежал на полу вместе с другими, представилось, говорю, ясно, как из подполья выскочил какой-то зверь, с небольшого черного барашка, и давай меня бодать рогами в спину. Я страшно испугался, вмиг под одеяло, с головой (вернее было бы сказать: под шубу или тулуп, чем больше тогда покрывались), и с той поры каждую ночь почти напролет до рассвета безутешно плакал и плакал, ни на минуту не успокоясь. В голове какой-то был кошмар: все меня каким-то невероятно в большом размере предметом давит и душит, и я оттого никак не могу прийти в себя; плачу тихо, но не могу никак остановиться. То отец ко мне ляжет, то няня, то сестра Анна, охватят меня своими руками и ногами, чтобы я уверился, что никто меня не возьмет и не тронет, но ничто не помогало. Так я мучился недели полторы.
Но время шло, и я больше поднимался, рос, как и все другие. А с возрастом и сам стал больше увлекаться всеми играми и забавами, как в семье, так и на улице с своими подростками. Узнал я и улицу, узнал и поля, спознался я скоро и с лесом, болотом.
В своей семье в осенние и зимние длинные вечера особенно я любил игру в «лодыжки», в карты — «в носа» — это бить тремя картами проигравшего по носу, по уговору сколько. Играли и бисером, который в то время был в моде. А то, бывало, залезешь с братом Михаилом на печку и здесь начнешь строить кресты и разные фигуры из лучины. По вечерам тогда сидели мы с лучиной: керосин в домах был очень в редких. С братом Михаилом жили мы вообще очень дружно. Конечно, по-детски и ругались иногда, называя во гневе уже особыми прозвищами. Меня звали Фетиской, его — Федей, а сестру Анкой-Калабанкой… Все же потешны были в ту пору эти ребятишки, Федя и Фетиска! Бывало, в масленицу поедят-по-едят блинков, выйдут из-за стола, да и давай прыгать! «Зачем это вы делаете?» — спросят их. «А чтобы промяться и опять поесть!» — ответят. А наевшись, бывало, благодушные, скорее на печку, а там, глядишь, и разругались меж собой: давай печку делить, и вот, бывало, сидят каждый на своей стороне и ухмыляются. Ведь и не дураки же были, а ухмыляются!
Летом клеили и пускали на нитке бумажные змеи. Любимым занятием была еще игра в деревянные стульчики (как в бабки), били ляпками (это каменные, гладко подточенные плиты), за которыми нарочно, бывало, ходили с целой ватагой ребятишек, искать на распаханных нивах полей; а потом уже, по мере возраста, переходишь к игре в бабки. В летнюю же пору любил вить кнуты, как у пастухов, и прогонять им скот после полудня. Так как вокруг моей родины одни леса и болота и с ранней теплой весной появляется в них множество комаров, а за ними слепней, то в жаркую летнюю пору стада на день пригоняются из полей и лесов домой, где они и стоят на дворах часов пять-шесть, самые полдни, а после полдней-то мы, мальчишки, и выгоняли каждый свой скот в поле; и вот тут-то у нас бывало, при возврате домой, и пойдет между нами — малышами потеха, хлопанье, кто кого перешибет по силе удара! Вспоминается мне сейчас из-за этих кнутов один случай, стоивший мне больших слез и стыда. Я расскажу его…
Домов тридцать, а может быть и больше, занималось в то время в селе производством дегтя из бересты и пней сосновых и еловых, в приспособленных к тому, в особо выстроенных в стороне от села зданиях-дегтярках. На эти дегтярки и я с братом Михаилом часто, как и другие мальчишки, ходили купать свои кнуты в деготь, чтобы они дольше не разбивались и хлопали сильнее. Вот раз у отца на дворе и пропади из лагушки (дегтярная бочка) деготь — коровы пролили. Отец вгорячах подумал, что это дело наших рук, на кнуты вымазали. «Позови, Аннушка, ко мне ребят!» — говорит. А я с братом в это время бегал по траве в огороде. Сестра кричит нас, а когда мы подошли, говорит: «Вот вам тятенька задаст, что сделали вы с дегтем?» Входим в дом, отец сердитый, взял первым брата Михаила и давай его сечь кнутом, конечно, по ж… (Матрене Васильевне). Я гляжу, дело плохо, скорей на печку, вперед там реву, сейчас и мне достанется! И конечно, печь меня не укрыла. Высекли брата; взяли и меня на его место. Собрал отец в кулак мою рубашку сзади, крепко держит меня, а подштанников-то, должно быть, еще на мне тогда не было, да прутом-то меня раз-два, раз-два, а я кричу во все горло, да бегаю вокруг его (потому, больно), а он все поддает да поддает горячего пару… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А все это сделал кнут: не хлопать бы мне им никогда, не мазать бы дегтем! Вот самого и отхлопали, за дело!
Чуть весна начнет просыпаться, я уже, бывало, с лопатой в руке: воду в ручейки спускаю и снег с кровли дома скидаю. Дом у отца крыт дранью, кровля от времени местами светилась. Не скинуть вовремя снег — значит, в самом доме будет водополье. Когда, бывало, большой дождь, то в доме всякой посуды наставлено горы, чтобы падала в них с потолка вода. Так вот и приходилось ко времени сбросить с кровли снег …
… По мере моего физического развития, наряду с детскими невинными играми и забавами, скоро меня мало-помалу начали приучать, соответственно моим силам, к труду и работе, тем более, что отец мой, занятый с утра до поздней ночи делами, всегда нуждался в помощи других.
Здесь мне нужно несколько сказать о личности моего дорогого отца родителя. Отец мой поступил сюда во псаломщики (по-старому: во дьячки) с самого начала своей самостоятельной жизни. Родился он в 1829 году 13 августа, проучился в Духовном училище, а в семинарии из риторики вышел. Между годами 1848—1852 он уже был в Пустошах на месте. (Посвящен в стихарь 18 декабря 1850 года.) В супружеской жизни, как я уже сказал, ему не повезло; но зато детьми от двух жен был богат: семья была большая. Приход же пустошенский был бедный и состоял из села и одной деревни Чернятино. В селе (в мои детские годы) было около ста пятидесяти домов. В деревне — около двадцати. Правда, первые годы он, когда мы — братья еще не учились во Владимире, да еще при не надломленных молодых силах, как будто жил хорошо, о чем, как мне на памяти, говорил построенный им на первых порах шестистенный дом с хорошей, по тому времени, обстановкой — со всеми холодными при нем пристройками: овин, амбар, сарай, баня — все это было. Но с первых же годов ему пришлось возиться с землей наряду с крестьянином. Скоро пошли следовать у него несчастье за несчастьем в супружествах, а дальше — воспитание сыновей; и вот пошло и пошло у него спускаться ниже и ниже его материальное положение. Но славу и честь ему все-таки нужно воздать за то, что он, долго боровшись с нуждой, в конце концов все же сумел под старость выбраться из нее и дни своей дряхлой старости прожил, благодаря Бога, не заботясь о куске насущного хлеба. Я скажу, что он не был горяч к делу, пожалуй, даже больше скажу, в нем была и лень, но зато был хороший мастер на всякое дело, и когда примется за что, всегда доведет до конца всякое дело с верным ручательством за хорошее качество и прочность сделанного. Не знаю, что бы он мог не сделать по домашнему хозяйству: сам он поставил двор, хлевы, баню, делал сани, телеги, корыта, колоды, рамы, столы, диваны, шкафы, стулья, клал печи, шил сапоги и т. п., словом — руки у него были золотые: в его доме все это было делом его рук.
Полевое хозяйство также велось им основательно, наряду с крестьянами. Надо было ему в свое время поспеть вспахать, заборонить и засеять. Вот почему ему и нужны были какие ни на есть помощники, для чего и меня с ранних лет стали приучать к делам, начиная с легкого дела.
Село в то время состояло из трех улиц: новая, старая и долгая улицы, один конец которой назывался Щемиловкой. Против всей Щемиловки, через улицу, саженях в 10, начиналась уже причтовая церковная полевая земля. Свою часть земли священник сдавал трем арендаторам. Когда поспевала рожь, сотни кур, бывало, кишели на нивах. И если бы им была предоставлена полная свобода, то, пожалуй, не одну десятину они бы уложили, оставив хозяев с пустой соломой. В этих видах и устроена была тогда поочередная сторожа; на четвертый день приходилось стеречь и нашему дому. Я с братом Михаилом (сменяла по временам и сестра Анна) с раннего утра и до поздней ночи, бывало, и гоняешь этих кур. И как долго тогда шел этот день! Как день-деньской уставали тогда ноги, бродя из конца в конец! Помнится мне при этой стороже один случай, когда я мог быть раздавлен насмерть или искалечен навеки. Среди отдыха пришло в голову баловство. Как раз около этих нив с рожью стоял полуразрушенный дом, разобранный сверху до простенков. С одной стороны один простенок стоял уже совершенно открытый без верхнего бревна, которое от угла до угла стены укрепляло и сдерживало бы простенок. Я и вздумал обходить этот дом по стене кругом, держась руками за верхнее бревно. Все шло хорошо. Пошел и по стене, где простенок был не укреплен; сначала пробираюсь счастливо, а потом, гляжу, весь простенок стал наклоняться на меня и стал падать, и я полетел с ним вниз. Жницы, которые были в это время, видели эту картину моего падения, с криками, что меня задавило стеной, несутся ко мне со всех сторон; живо разобрали бревна простенка (а они около трех аршин) и из-под них извлекают меня. К удивлению их, я оказался здоров и ни в чем невредим. Оказалось, что я попал на дно небольшой ямы (вероятно, землю когда-нибудь брали для подсыпки к фундаменту дома для тепла), и таким образом Бог меня спас от погибели.
В это же время я уже стал вместе с отцом возить с поля снопы. Он мне, бывало, подает, а я, стоя на телеге, укладываю, а дома я складываю с телеги, а отец укладывает в «одеянье».
Понемногу стал помогать отцу и во время навозницы. Отец стал доверять мне одному отправляться с лошадью с телегой навоза и в поле. И вот, бывало, из поля на пустой телеге мчишься стрелой в целой веренице таких же телег, присоединившихся по пути; пыль столбом кругом стоит, а мне это и любо, и я еду в ряду других, как взрослый!
И вечером, после работы, лошадь уводили в поле кто-ни-будь из нас же: я или брат Михаил. Обыкновенно я садился верхом. По утрам также один из нас часто ходил в поле за лошадью. И как же не хотелось тогда так рано с постели вставать, часу в четвертом, а иногда и ранее, утра! Возьмешь, бывало, тогда полный карман сухарей и корок для лошади, чтобы отозвать ее от табуна, но дорогой, бывало, больше всего сам и сгложешь, а особенно когда лошади паслись далеко.
У меня в детстве была одна история с лошадью. Лошадь наша была в огороде, щипала траву. Вышел зачем-то и я на огород. И давай подзывать к себе лошадь вместо хлеба щепкой в руке. Раз, два обманул ее. А я все еще не уймусь: еще разок другой проведу! Подманиваю опять со щепкой — а она как шарахнется в мою сторону впрыть, да прямо на меня и ударила своим копытом мне по пятке. Вгорячах я было поднялся, побежал, но побежал совершенно хромой, подгибаясь на убитую ногу почти до земли; сам плачу, а кровь-то, кровь-то у меня из раны так и бьет! Сам сижу у ближайшего забора. Недалеко были игравшие во что-то мальчишки; они видели это, побежали и сказали о том отцу. И отец, взяв к себе на руки, унес меня домой. Пришлось рану лечить какой-то примочкой, — думается, что с вином… Но зато и лошадь та после этого случая жила недолго! В одно летнее утро в поле, около пруда, в сыром вязком месте, она как-то завалилась и околела. Жалко было страшно отца, как он был подавлен этим горем! Стояла рабочая пора, а купить — в кармане ни копейки. Хорошенько не помню, как тогда он справлялся в хозяйстве без лошади. Жил он в то время бедно. Правда, хлебом и вообще всем тем, что родила земля, он кое-как справлялся. Не хватит до нового хлеба, «до нови», так люди выручали, одолжали… словом — в питании семьи он справлялся. Но зато в чем другом, что составляло в то время как бы некий предмет роскоши, — было очень плохо; например, нет чаю, сахару… Пришло воскресенье, принесет отец от службы пять-пятнадцать копеек, и кто-нибудь из нас бежит, бывало, купить четверть фунта или полфунта сахару. И как хочешь пробивайся им до следующего праздника! Белого хлеба мы в то время круглый год не видали, кроме праздника Пасхи, к которой всегда покупали по полпуда, иногда и больше, пшеничной муки и соленого мяса (солонины).
Вот что мне еще помнится: сосед наш из староверов держал у себя постоялый двор. Тогда селом по зимам проходили огромные обозы с каким-то камнем, рассыпавшемся в песок, который мы тогда употребляли для присыпки письма чернилами, возили еще и серый мел в кусках, а после стали возить через наше село и лесной материал. Эти обозы и останавливались у соседа пить чай и обедать. К обеду обыкновенно варились серые щи с солониной. Остававшиеся щи после извозчиков часто вот и приносил нам сосед. И Боже! Как, бывало, мы их улепетывали за обе щеки! А то священник Михаил П. Русов, случалось, приносил нам по куску баранины или телятины, когда она уже испортится… опять с радостью, бывало, мы все и косточки повысосем. Да, много видел отец нужды и горя, когда мы учились во Владимире. О том, что мы носили и в чем ходили, начиная с самого отца, и нечего говорить!.. Теперь, вспоминая то прошедшее время и сравнивая его с настоящим, мне страшно-страшно жаль отца, что тогда пережила его добрая и любящая нас душа, перенося все невзгоды и лишения из-за нас, в том числе и за меня, какие выпали на его долю! …
… Обучение грамоте моим отцом крестьянских детей велось тогда еще по буквослагательному способу: буки аз — ба-ба, веди аз — ва-ва. Этим способом обучались у него и старшие мои братья и сестры. Мне же не пришлось тогда пройти всей азбуки до конца трехзначных слогов: удалось избежать этой головоломной египетской мудрости, так как к тому времени, к моему счастью, открывалась в селе школа. Все же, к открытию школы, я уже знал название всех букв в порядке алфавита и мог разобрать двухзначные слоги — ба, ва, га… Трехзначные же — брю, врю, грю… и дальнейшие же заучивания по букварю слов под титлами — «Ангел, Ангельский, Архангельский, Бог, Божество» и т. д. — Бог сжалился надо мной: я не ломал своего языка, как другие, не забивал память бессмысленным заучиванием… И, Боже Ты мой! Бывало, помню, как твердили эту азбуку ученики отца, сидя за столом, и каждый твердил свое вслух… бо, во, го… бры, вры, мры… ки, ли, ми… блю, влю, глю… Вот вавилонское-то смешение языков! Отец иногда с нами раздражался, и мне раз, помню, крепко от него досталось ложкой по лбу, что она разлетелась… Но, слава Богу: открылась в селе начальная школа, и в ней обучение повелось по новому звуковому способу, более понятному и легкому. Все родители повели своих сынков учиться: девочек первые годы в школу не принимали. И меня с братом Михаилом отдали в школу. Школа была открыта на Старой слободе в доме одного крестьянина — Кондратия Носова. Первым учителем в ней был Виктор Оси-пыч Равнин; квартиру имел сзади нас у бабушки Марфы, дом которой стоял на тятенькиной усадьбе. Учитель этот сам по себе был человек славный: бывало, пойдет в школу и нам в окно стукнет: «Эй, ребятишки, я пошел…», но любил он выпить и в таком веселом виде ходил частенько в школу.
Язык у меня в то время еще неправильно выговаривал некоторые буквы. Бывало, учитель на перекличке спросит: «Евгений Елховский здесь?», а я, поднимая руку вверх, из-за парты кричу «здешь!» Не выговаривал также букву «р», — у меня выходило «лы». Первый год были приняты в школу и все великовозрастные люди, лет по семнадцати. Потому ли, что еще недавно было то время, когда секли людей, или потому, что учитель иногда был выпивши, но розги им изредка применялись и в то время. Помню, раз в чем-то провинился брат Михаил, и его положили на пол сечь. А кто сек, был хороший товарищ брату. И вот, чтобы не было ему больно, он только сверху замахивался сильно, внизу же (по Матрене Васильевне) только что прикладывал. Но положенное число ударов все же выполнил. Михаил же брат, так как он боли не почуял от такого легкого сечения (надо бы ему тогда заплакать, а он, вставши с пола, и засмейся) — этим и выдал своего спасителя-товарища. «А, так ты жалел его, — вскричал учитель, — вспороть за это тебя самого!» Его и растянули тогда и, вместо брата, вспороли по-хорошему. Учительствовал Равнин в Пустошах недолго: почему-то он скоро ушел от нас. По предметам его я учился недурно: за все время ученья в школе ни выговоров, ни наказаний от него я не видел.
С Законом же Божиим у меня дело обстояло на первых порах никуда не годится! Законоучителем был тогда священник Михаил Петров Русов; любил, чтобы ему говорили урок по-книжному, чуть не слово в слово. А во мне такой привычки зубрить не было. Раз он и наказал меня, поставив на колени, за мой рассказ. А у него еще была привычка перед уроком всегда спрашивать — кто не знает урока? и таких тотчас ставить на колени. Вот и я, бывало, с тех пор, как только спросит — кто не знает? — тотчас же вместе с другими и руку вверх и, разумеется, становлюсь на колени. Много, бывало, нас таких охотников было! И стоим-стоим целыми часами за доской, как-нибудь балуясь втихомолку друг с другом! Хорошее времяпровождение! Ведь ничего и не стыдно было! Долго я упражнялся в этом коленопреклонении, чуть ли не с полгода, пока, наконец, законоучитель не догадался, что это стояние вошло у меня в простую привычку, как бы в урок, который я должен был выполнить, и он тогда пригрозил мне, что скажет про меня отцу. Эта угроза на меня и подействовала: я стал исправен в Законе Божием, и коленопреклонения меня большее не касались. Чудно отвечали уроки этому батюшке! Каждое предложение ученика выливалось в форму какого-то вопроса. Со временем, когда я был уже учителем в соседней народной школе и приезжал сюда на экзамены, дико и смешно было выслушивать подобные ответы учеников по Закону Божию, законоучителем был все тот же отец Русов, у которого учился и я. И годы не изменили его в приемах преподавания!
Тут в школе спознался я и с новыми товарищами, с которыми у меня завелась дружба и в гуляньях на улицах, и в хождениях по лесам за грибами и за ягодами, а по болотам, бывало, гонялся с ними за молодыми утятами. Кроме ранее сказанных игр, стали допускаться мною и другие, более шаловливые, иногда и небезопасные игры. Это, например, игра в зимнее время «в карыши» (замерзший лошадиный помет). Набиралась большая груда «карышей». Вожатый должен был охранять эту груду, чтобы ее не разбили и не вышибли у него ногами; а играющие, в свою очередь, во что бы то ни стало должны непременно всю ее расшвырять по сторонам. Если во время нападения на эту груду вожак ударит кого рукой, тогда уже этот начнет водить. Когда же удастся разбить всю груду до последнего «карыша», то все вожака начнут тузить кулаками по чему ни попало, кроме головы, и бьют до тех пор, пока тот не добежит до ближайших ворот, о которых условились раньше игры. Во время этого побега к воротам избави Бог упасть вожаку: вот тут-то тогда, бывало, и пойдет потеха-возня; с криком «мала копна» начнут падать один на другого в одну кучу: кричат, визжат, все в снегу, красные, едва дышат, стараясь подмять книзу один другого… При этом, конечно, случалось немало и слез, когда-кому доставалось шибко намять бока. Подобная же игра — потчевать кулаками (греться) была в игре в «кулын-бабу». Играют так: вожак становится у ворот, остальные посредине улицы. Вожак кричит: «Кулын-баба!» С дороги же: «Э-эй, дядя!» Вожак: «Насыкай кулаки!» Играющие: «На чьи боки?» Вожак: «На Ванькины… На’Кузькины» (имя одного из играющих). Тут опять пускают в ход кулаки в назначенного вожаком, пока не добежит до ворот. Бывает и «мала копна».
А то хороша была игра в летнее время или весеннее — в тепло посуху «в вершки» и «буем». Эта игра палками в деревянный шар, но небезопасная: можно попасть в играющего палкой или шаром (подробности игры говорить не буду).
После учителя Равнина был назначен в школу другой учитель — Василий Иваныч Успенский — человек хороший. Он был также охоч до выпивки, но в школу пьяным не ходил. При нем уже учеников не секли. Поселился он на квартире у нас в доме, где ему уступлена была лучшая половина дома — горница, а мы остались в другой половине, где была кухня. Во время квартирования его у нас со мной случилось одно искушение, которое послужило добрым началом в дальнейшей моей жизни. Василий Иваныч, куривший всегда хороший табак (до сих пор я видал только махорку), приходя из школы вполдни обедать, а то и после послеобеденных уроков, часто просил меня набить табаком гильзы. Он меня и научил, как это делать. В одно время я и утаил себе папироску, которая у меня при набивке тогда прорвалась. Для себя-то я подклеил ее тогда. И вот, улучив минуту, когда домашних никого не было около меня, в сенях у окна второпях давай и давай курить — да и накурился так, что у меня голова «ходом пошла»; я скорее лег в кровать. Домашним говорю, что у меня от чего-то голова сильно болит. Скоро появилась тошнота, и меня раза два-три так-то ли выдрало-драло, что все поджилки дрожали, а сам весь взмок. «Господи помилуй, — думаю, — да ведь этак-то будет хлестать — умрешь прежде времени!» Вот этот-то случай у меня навсегда в памяти и остался, и когда приходилось после ради баловства браться за папиросу, никогда больше не осмеливался и затянуться, как делают курящие люди. Так мой воровской грех и послужил мне на пользу: я всю жизнь некурящий.
Нашедши в школе новых приятелей, приходилось мне иной раз из-за них много пережить душой и тревожного. Помню хотя бы и такой случай в жизни. Однажды пошел я в лес поесть ягод. Нас набралось мальчишек шесть. А ели мы тогда в лесу всякую зелень: гонобобель (голубика), заячий щавель, косолки с сосен и т. п., все переваривал наш желудок!
Нагулявшись и наевшись всякой зелени, стали лазить по деревьям; каждый старался влезть выше другого. А у одного мальчишки на грех оказались тогда спички в руках; он и подожги на кочках прошлогоднюю сухую траву, «белоус» называется. Огонь-то больше да больше, с кочки на кочку перескакивает. Мы видим — дело плохо! Взяли по зеленой еловой лозе и давай хлестать изо всех сил, но никак не справимся с огнем; хлестали, хлестали да бросивши все, врассыпную, кто куда! Я прибежал в село, сердце так и бьется: испугался! А дым-то, дым-то… так клубами и поднимается над лесом! Много бы тогда поделал огонь, если бы вовремя не прибежали из села крестьяне и не затушили его.
Время в ученье шло быстро. Наступило последнее для меня лето в семье. Меня уже раньше предрешили в августе месяце везти во Владимир учиться. Надо было кое-что подготовить для поступления в приготовительный класс Духовного училища. Брат Арсений указал мне, какие я должен знать молитвы и какие истории Закона Божия, и я по временам стал твердить их. Какая-то тихая грусть стала тревожить меня, а особенно когда в волю души нагуляешься и наиграешься с своими товарищами, а домой придешь, возьмешься за книгу!.. Невеселые мысли стали роиться в моей голове: все это, что теперь так прекрасно, так дорого сердцу и душе моей мило, скоро я должен покинуть и проститься навеки. Казалось мне, и домашние стали ко мне как будто другие; мне стало заметней, как любят они, ласкают и жалеют меня. Меньше заставляют меня и работать и полакомей кусочек съестного стараются дать… И чем ближе к отъезду шло время, тем больше болела, душа у меня. Ляжешь ночью, бывало, в постель, но сон и на ум не приходит, долго-долго лежишь раскрывши глаза, о чем-нибудь сожалея. А поутру встанешь, бывало, — нет той беззаботной веселости духа, которая раньше была: что-то тревожит, скребет на душе. Идешь в лес, бывало, пойдешь средь любимых, поспевающих рожью полей, слышишь, птицы щебечут, поют и играют, в лесу ягод много и всяких грибов, все это мило, душе дорогое, все то же — былое, но не то на душе у меня. И так день за днем проходили последние дни моего детства в семье…