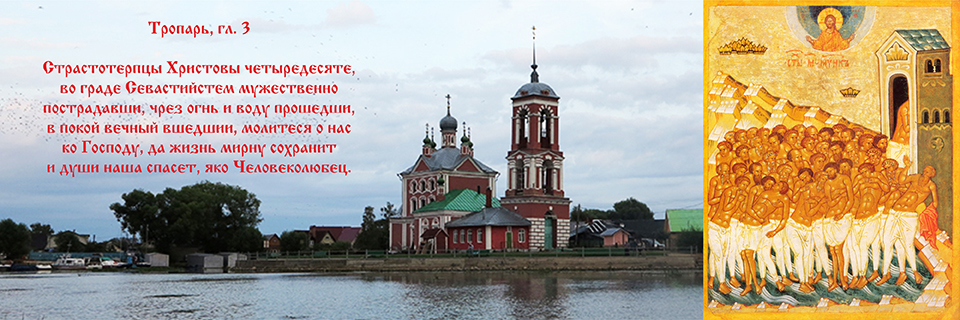Холодно и неприветливо встретил меня город Владимир. Когда я с братом Арсением пришел к дому квартиры Михаила, оказалось, что хозяйка квартиры еще не приехала с лета, и дом был заперт замком. Оставивши меня одного во дворе (а пришли мы сюда с поезда около полуночи), брат побежал к хозяйке дома, у которой всегда в таких случаях оставлялся на лето ключ. Но пробегавши более получаса, пришел ни с чем: так как и ее в то время не оказалось дома. Надо было где-нибудь ночевать. И вот мы выбрали где-то на потолке надворного строения местечко и, подложив свои сумки под головы, легли на голых досках, прижавшись друг к другу. Какие-то неопределенные чувства были в то время во мне. Оставшись один, когда брат ходил за ключом, я уже не боялся тогда, как дома, хотя и жутко было быть одному; и этот ночлег на досках не казался мне таким суровым, как мог показаться бы дома: со всем этим я тут же смирился, как будто тому так и следовало быть. Следующим утром и днем мне пришлось быть почти одному, бродя возле и около дома. Арсений куда-то все уходил от меня. После полудня он сводил меня в харчевню и здесь пили чай с калачом (первый раз только увидел калач и харчевню) и съели сковородку поджаренного картофеля. Пришел из харчевни домой один, а брат куда-то опять ушел от меня и не приходил до ночи. Ночевали и эту ночь все там же и так же. На другой день все та же харчевня с закуской и чаем, но на ночь брат принес уже ключ от квартиры, и мы могли теперь с ночлегом устроиться удобней и лучше на свободных кроватях квартирантов-учеников. Оставаясь один почти по целым дням без брата, я от нечего делать и интересуясь тем местом, где придется жить и учиться, раньше узнал и Духовное училище, оглядев его кругом. Но скоро мне пришлось и вовнутрь в него заглянуть. Наступил день экзамена, и брат повел меня туда, по дороге все объясняя и показывая, чем я интересовался. Экзамен был легкий: я в селе подготовлен был больше и мог бы держать прямо в первый класс, но почему-то меня тогда сунули в приготовительный. Принято нас было в этот класс что-то много, ‘человек шестьдесят. И так я уже значусь теперь учеником Духовного училища! Стали съезжаться и прочие ученики-квартиранты; приехал и брат мой Михаил из дома. С ним стало веселее, и он был мне рад. С этого дня мы крепче тянулись друг к другу. Один без другого никуда не ходил. В городе он меня везде поводил и о всем рассказал. Брат же Арсений где-то встал от нас на квартире отдельно, редко показываясь к нам.
Холодно и неприветливо встретил меня город Владимир. Когда я с братом Арсением пришел к дому квартиры Михаила, оказалось, что хозяйка квартиры еще не приехала с лета, и дом был заперт замком. Оставивши меня одного во дворе (а пришли мы сюда с поезда около полуночи), брат побежал к хозяйке дома, у которой всегда в таких случаях оставлялся на лето ключ. Но пробегавши более получаса, пришел ни с чем: так как и ее в то время не оказалось дома. Надо было где-нибудь ночевать. И вот мы выбрали где-то на потолке надворного строения местечко и, подложив свои сумки под головы, легли на голых досках, прижавшись друг к другу. Какие-то неопределенные чувства были в то время во мне. Оставшись один, когда брат ходил за ключом, я уже не боялся тогда, как дома, хотя и жутко было быть одному; и этот ночлег на досках не казался мне таким суровым, как мог показаться бы дома: со всем этим я тут же смирился, как будто тому так и следовало быть. Следующим утром и днем мне пришлось быть почти одному, бродя возле и около дома. Арсений куда-то все уходил от меня. После полудня он сводил меня в харчевню и здесь пили чай с калачом (первый раз только увидел калач и харчевню) и съели сковородку поджаренного картофеля. Пришел из харчевни домой один, а брат куда-то опять ушел от меня и не приходил до ночи. Ночевали и эту ночь все там же и так же. На другой день все та же харчевня с закуской и чаем, но на ночь брат принес уже ключ от квартиры, и мы могли теперь с ночлегом устроиться удобней и лучше на свободных кроватях квартирантов-учеников. Оставаясь один почти по целым дням без брата, я от нечего делать и интересуясь тем местом, где придется жить и учиться, раньше узнал и Духовное училище, оглядев его кругом. Но скоро мне пришлось и вовнутрь в него заглянуть. Наступил день экзамена, и брат повел меня туда, по дороге все объясняя и показывая, чем я интересовался. Экзамен был легкий: я в селе подготовлен был больше и мог бы держать прямо в первый класс, но почему-то меня тогда сунули в приготовительный. Принято нас было в этот класс что-то много, ‘человек шестьдесят. И так я уже значусь теперь учеником Духовного училища! Стали съезжаться и прочие ученики-квартиранты; приехал и брат мой Михаил из дома. С ним стало веселее, и он был мне рад. С этого дня мы крепче тянулись друг к другу. Один без другого никуда не ходил. В городе он меня везде поводил и о всем рассказал. Брат же Арсений где-то встал от нас на квартире отдельно, редко показываясь к нам.
Начались уроки в училище, и я понемногу свыкался с порядком учебного дня и привыкал к новым товарищам. Смотрителем училища был в то время Михаил Петрович Введенский, а его помощником священник отец Иван Мартынович Вишневецкий. Учителем же в приготовительном классе — Андрей Петрович (фамилию забыл), но он в этом же году и умер: человек был уже старых лет, почему-то на правой руке его пальцы были без двух нижних суставов. Но он, надо сказать, и половинными пальцами так хорошо мог писать мелом на доске и ручкой на бумаге, что относительно каких-либо неправильностей в очертании букв и слов его письма не могло быть и речи. Был он человек справедливый и добрый, обид от него никто не видал.
То же можно сказать и относительно смотрителя Введенского. Был только он по временам на своих уроках в III и IV классах катехизиса и Богослужения очень вспыльчив и сердит. Особенно он раздражался иногда на ответах своего сына Сергея, когда этот плохо отвечал урок. Тут он давал ему даже плестки по щекам и выгонял за дверь из класса. В этих случаях, бывало, доставалось от него и всем, кого спрашивал в этот урок. Побоев же от него не было, все ограничивалось безобедами и стоянием на коленях. В общем же говоря, судя по учительству, он был справедлив.
Не то представлял из себя его помощник Иван Мартынович Вишневецкий. Многим он не нравился, в том числе и мне. Это был в своем роде сыщик и несправедливый каратель даже и за мельчайшие детские шалости. Хотя он и был священник, но отеческих мер вразумления словом пастыря-воспитателя в нем было не видно. Своим сухим обращением он отталкивал от себя учеников: его не любили.
Итак, я стал на квартире вместе с братом Михаилом у Александры Ксенофонтовны Великосельской. Хозяйка была добрая сердцем, честная и правдивая во всем. В ней заметна была и любовь к нам и ко всем квартирантам. Но она была временами больна лунатизмом. В лунные ночи она бессознательно вставала с постели и бродила по комнатам. На первых порах тем самым она часто пугала меня. Во время этих приступов болезни она, правда, ничего вредного нам, спящим с ней в одной комнате, и не делала, но самый вид ее пугал меня: ходит в нижней белой сорочке («как смерть» — проносилось в моем воображении), переставляет что-либо с места на место, а то, случалось изредка, стаскивает кого-либо из нас с кровати, зажигает огонь, а глаза у ней в это время такие блуждающие, одним словом, все это действовало среди глухой ночи возбуждающе. И я, бывало, как только она поднимается с постели, то тотчас с головой под одеяло и затыкаю уши, так как она иной раз тут что-то бормочет. А один раз она даже побежала за мной. По надобности мне надо было тогда выйти в коридор, и только я встал с постели, и она, гляжу, поднимается и прямо за мной. Я успел выскочить в коридор и крепко нажимаю дверь, не пуская ее… потом, порвалась-порвалась она в коридор и, слышу, отошла от двери и легла на свое место: это значит, болезненный приступ с ней миновался. Говорить с ней в это время, мы были раньше предупреждены, нельзя: иначе у нее были после долго головные боли. Но и к этому со временем я привык.
Старшим по квартире был у нас тогда ученик IV класса Алексей Иванович Добролюбов (со временем — зять преподавателя семинарии Митрофана Михайловича Рудольфа), тоже был человек хорошей души, простой. Нас — учеников на квартире было человек десять. С виду наш старшой был человек крепкий и сильный, и в случае какой-нибудь несправедливости нас, младших, между собой мог так-то ли своим увесистым кулаком попотчевать обидчика, что долго потом не забудешь гостинца его! Но этих случаев было у него очень мало: все его как-то любили и тотчас же слушались. Зато он не прочь был иной раз показать свою силу кулака на другом, не принадлежащем нашему лагерю, а этим самым, со временем, и нам всем тогда повредил: нам не пришлось жить вместе.
Во Владимире, надо сказать, давно были в моде кулачные бои семинаристов с мещанами. Эти бои, к несчастью, и были тем годом на Лыбеди, близко соприкасаясь нашей квартиры. Старшой-то наш в своей горячке и не сдержался; сам захотел потешиться в драке, а за ним и мы, на него глядя, от него не отстали. Конечно, и я в том числе и тогда же получил для себя хороший урок! Ну как же, скажите, мне-то не быть, когда, гляжу, меньшие меня дерутся?! А известно, ребятишки всегда бывают первые задиры, зачинщики! Так вот вышел и я, кулачонки сжал, стою в первом ряду, засыкаю рукава, как и другие. Против нас такая же шеренга мальчишек-мещан. Машем те и другие кулаками, крепких ударов нет: можно, думаю, с такими и погреться! Потом гляжу, как стали на нас противной стороной из задних рядов напирать! Мать ты моя родная! Мы назад, назад, да и в бегство! И вот тут-то мне в затылок как хватит один взрослый детина! Сшиб меня с ног, посыпались искры из глаз и всю голову словно каким туманом обдало! Сам в голос заплакал и тихонько, тихонько на четвереньках (условие драки мне сказали: лежачего не бьют) пробираюсь сквозь неприятельский стан и потом, давай Бог ноги, домой… И с этих пор наш Евгений не только во всю свою жизнь ни с кем не дрался, а и боялся смотреть на это варварское зрелище. В этом меня укрепил и другой случай в училище: помню один поединок в классе учеников А. Доброхотова и Овчинникова, когда последнему такой-то ли огромный фонарь подсветили под глазом! Страшно было и смотреть на таких озверелых драчунов (хорошей бы плетью тогда им обоим по задницам!). Вот прошло с тех пор более сорока пяти лет, и воспоминания о том крайне для меня неприятны. Одним словом, полученный мной в голову тот орех в драке с мещанами отрезвил меня и вразумил на всю жизнь.
Не бесследно для нас прошли те кулачные бои и на всю квартиру. Неутомимый глаз Ивана Мартыныча чаще и чаще стал наблюдать за нами. Самый малейший непредвиденный проступок с нашей стороны теперь им наказывался частыми безобедами и стоянием на коленях сразу по нескольку дней. У большинства квартирантов тогда балл по поведению за треть был три; а мне, должно быть, как еще ребенку, мало разбирающемуся в делах поведения, дали за треть четыре, несколько дней просидел вместе с другими без обеда. А в довершение всего этого после Рождества приказано было всем нам разойтись по разным квартирам, что и было, конечно, всеми исполнено.
В ту же первую треть у меня было еще одно горе. Когда меня отправляли во Владимир, мне не приготовили тогда теплой одежды. Холода же с осени наступили рано. Первое время я кое-как иногда осмеливался ходить до училища, а здесь сказать, в изодранном-изодранном которого-то брата тулупишке. Но скоро и его надеть нельзя было. Раз я и пришел с квартиры к обедне, — ходили в Воскресенскую церковь, — в одном пиджаке. Это не укрылось от глаз надзирателя, подходит ко мне, видит, что я дрожу от холода. Узнает, что у меня больше нечего надеть; доложил о мне в Правление училища и Ивану Мартынычу. Этот, с своей стороны, идет ко мне немедленно на квартиру, снимает допрос, — как, почему? и тут же мне говорит, что сейчас же он сообщит отцу, и что, в случае не присылки мне теплого пальто, я подлежу увольнению. Господи! Как тяжело тогда было у меня на душе! Не один раз тем днем я поплакал. Я был уверен, что не по небрежности семейных у меня до сих пор нет пальто, а потому, что его сшить не из чего и что денег нет у отца. И ходил я тот день, как не свой. К этому тогда же, помню, присоединилась новая неприятность: приходит ко мне на квартиру полиция с розыском брата Арсения. Относительно где-то скрывавшегося брата квартиранты строят разные предположения тревожного свойства, и все это на меня подействовало так тем днем, что я не мог себе тогда найти покойного места и плакал… Но скоро, к величайшей радости, то и другое разрешилось благополучно. Стало известно, что брата искала полиция (и нашла его) потому, что он втихомолку от хозяйки, где он жил, перешел на другую квартиру (вероятно потому, что нечем было платить). К вечеру же этого дня пришла из дома няня и принесла нам обоим (мне и брату Михаилу) большой мешок с тулупами каждому из свойских овчин и с такими же, длинной шерстью, воротниками. И Боже! какая была у меня тогда радость! Какая, подумаешь, была самоотверженность со стороны няни! Это дело было около Казанской 22 октября, выпал уже снег. За 80 верст в такое время ехать на лошади (на телеге иль на санях) слишком рискованно, а тем более по первопутку, без дороги, идти пешком с такой ношей! (Царство Небесное тебе, дорогая няня, теперь скажу я, за то, как ты нас при жизни любила!) Поутру прихожу в класс и тому же Ивану Мартынычу попадаюсь случайно на глаза, а он и говорит: «Вот как хорошо, что прислали», и я тогда с радостью улыбнулся ему.
Каждый раз, когда приходила к нам няня, мы с братом Михаилом далеко всякий раз, прощаясь, бывало, провожали ее, когда до Золотых Ворот, а когда и до самой Ямской, где для нее дорога круто сворачивала влево. Скучно было, проводивши ее: так все и вспоминается о ней и все ее разговоры, какие она вела с нами. Обыкновенно в гостинец нам она приносила яиц десятков пять или шесть, а в другое время, когда кто-нибудь приезжал за нами или отвозил нас из дома, тогда привозили пудов пять-шесть муки и большую кринку коровьего масла (это было у отца непокупное), которые и шли на общий стол, а другие квартиранты покупали другой провизии, так все мы и сравнивались в расходе. Денег нам оставлялось на руки всегда очень мало, только на самое необходимое: чай, сахар, баня; денег у отца никогда не водилось. На булки же у нас у каждого было на руках копеек по пятнадцати-двадцати на всю треть, почему белого хлеба мы редко и видели. Утром и вечером за чаем довольствовались только одним черным хлебом с солью. Обед и ужин всегда состоял из двух блюд: щей или картофельного супа и каши. В начале трети для щей иногда покупалось и мясо, но это было очень и очень редко; к концу же трети приходилось иногда оставаться при одних пустых щах и без каши. На квартирах тогда мы больше как-то и придерживались бедняки к беднякам. При такой скудости в кармане и в столе, бывало, и ждешь не дождешься, когда отпустят домой.
Первым вестником скорого отпуска, бывало, был праздник Введения, когда запоют «Христос рождается», И сколько, бывало, отрады вольется в душу пением этим! И с этого дня мы все чаще и чаще начинаем вести разговоры между собой о том, что у нас делается дома, как поедем на Рождество и что будем делать на святках. При такой настроенности как, бывало, долго тянулись последние дни перед отпуском! Встанешь поутру, бывало, знаешь уж, сколько часов осталось и до поездки домой. Наконец, наступает и канун долгожданного отпуска; кое-кто начинает приезжать уже из провинции за своими детьми. И мы с Михаилом, бывало, ждем не дождемся отца. Но вот и за нами приехали. На душе сколько радости! О всем-то, бывало, узнаешь от отца: как дома, кто жив, кто умер в селе, чем занимаются, что на праздник купить и т. п., радости нашей нет и границ. Поутру бежишь скорее в училище, без меры волнуешься, со всяким встречным из товарищей наскоро поговоришь, перебиваешь друг друга в речах, и все это в конце концов клонится к разговору о поездке домой и как будет там хорошо! И как же долго, бывало, идут и эти последние уроки! …
… Почти во все годы ученья в училище и Духовной семинарии, за исключением одного или двух лет, когда Пасха была ранней, мне приходилось на этот праздник всегда ходить домой пешком. Весенний путь был другой: сначала нужно было ехать на поезде (29 верст) до станции Ундол, а потом через фабрику Собинка в трех верстах от Ундола и далее селениями: Перебор, Крутояк, Угрюмиха, Шепели, Березники, Славцево (погост Георгиевский), Хантурка, Косьмино, Турово, Малые острова и Уршельская фабрика — пешком верст 65. Много приходилось иной раз встречать на этом пути всевозможных препятствий от разлившихся речек, глубоких бродов и болотистых мест. Идешь, бывало, в этих местах по особым бревенчатым перекладинам или, нарочно для прохода, по спиленным и поваленным целым деревам и сучьям в речных местах; а в иных местах идешь прямо водой. Приходилось иногда и оступаться с тех деревьев и попадать во всю ногу в воду, зачерпнувши, разумеется, полные сапоги: страшно было тут идти и небезопасно. А часто случалось, обувь на ногах была худая, так и идешь всю дорогу в мокрых сапогах, только и переобуешься, бывало, в местах остановки на перепутьях за чаем или на ночлеге, где хозяева, как люди знакомые, иногда выручали сухими теплыми сапогами. А поутру опять с мокрой портянкой обуваешься в сырые сапоги. Какое было сначала неприятное ощущение! Но все эти лишения, опасности и трудности пути сторицею вознаграждались бодрым, довольным настроением души от сознания свободы, без ученья, знаешь, что идешь сейчас домой, где ждет тебя одна приятность.
А особенно хорошо чувствовалось, когда, бывало, стоит весенняя теплая и солнечная погода. И сама природа так приятно всегда действовала на мои чувства зрения, слуха и обоняния! На деревьях начинали вздуваться почки; в лесу так приятно пахнет смолистой елью и сосной; везде журчит вода; бегут с гор весенние потоки. А птицы-то, птицы-то как весело распевают! А особенно весенний жаворонок часто занимал меня: как он где-нибудь над полем высоко-высоко поднимался к небесам, а потом вдруг падал вниз, как камень. Вот, бывало, на пути и полюбуешься на все это, постоишь часто на месте, вместо отдыха, озираясь на все стороны, и везде-то найдешь для своего сердца, слуха и взора так много милого, дорогого и бесценного. Жила тогда моя душа во всю ширь и глубину. Встречались на пути иногда предметы и невеселого свойства. Например, на меня всегда производил тяжелое впечатление, в лесу при небольшой полянке близ дороги, одиноко стоящий могильный крест. Здесь, мне говорили, когда-то убили человека! И вот мне всегда тут как будто и чудилось, что и на меня сейчас выскочат из лесу недобрые люди, убьют или зарежут меня. А потому всегда шел этим местом молча, оборачиваясь по сторонам, пока совсем не пропадет этот крест с моих глаз. Этот крест стоял за деревней Перебором к Крутояку.
Или было еще другое неприятное место за деревней Туровой к Большим островам (можно было идти вместо Малых на Большие острова). Здесь, по дороге, было раскольническое кладбище, прямо-таки в сосновом бору, без всякой изгороди. Тут было много могил, а на них положены большие камни. Здесь же у сосны часто можно было видеть приставленные к сосне носилки, на которых носили гроба с мертвецами. У этого кладбища тоже получалось тяжелое впечатление. В деревне Угрюмихе в то время жил и раскольнический поп-женщина.
Трудно было для прохода еще одно место за Островами к Уршелу. Здесь через болото на две версты до леса тянулась насыпь, сделанная на настланном накате. От идущих тут каждодневно обозов с посудой Уршельского завода, несмотря на частые поправки этого места, настланный накат то одной стороной низко уходил в болотную грязь, то другой. И вот, проходя им, только и приходилось перепрыгивать с одной стороны на другую, чтобы идти, где суше. Долго, бывало, идешь эти две версты!
За Уршелом же то и дело попадаются броды: стоило и тут большого труда, чтобы благополучно миновать их. Зато, когда благополучно придешь домой, то впереди представлялись тебе только одни удовольствия и радости. Эта радость — от ожидания и встречи наступающего дня великого праздника Святой Пасхи.
Как о самом близком сердцу, дорогом празднике, мне, первый раз говоря о нем, опять придется несколько задержаться в своих воспоминаниях, как и о Рождестве. Эти воспоминания касаются дорогих и священных минут всей моей жизни; да и каждый, впрочем, верующий, можно сказать, в этот день жил и живет этими святыми радостными минутами. Воистину Пасха — праздникам праздник и торжество из торжеств! Нельзя не остановиться на нем!
О, где ты, мое милое, золотое детство, способное так глубоко воспринять и восчувствовать эту святую, неземную радость Великого дня, когда ничто земное, даже поверхностно, не ка-салось тогда твоей души? Что это за чудное настроение души, никогда не повторяемое в дальнейшей жизни, когда от радости готов обнять каждого и крепко-крепко любить всех! Эти минуты давала мне тогда святая, светозарная и спасительная ночь Воскресения Христа, моего Господа и Спасителя! С каким нетерпением я всегда поджидал полуночного благовеста к утрени! Сколько раз в этот субботний вечер я прибегу, бывало, то в церковь, то домой, суетясь и нервно поглядывая на часы! В эту ночь я никогда не спал, и даже раздеваться никогда не думал. Надо сказать, что и до сих пор во мне осталось это нервное ожидание Христова дня; только за последние годы я, и то не всегда, на час или полтора стал засыпать, насильно приневоливая себя для подкрепления своей силы, боясь, как бы без сна, и в предыдущие дни при малом сне, не переутомить себя и не захворать на службу этого дня и через это как бы не лишить себя праздничной радости! Когда я стал выходить из детских годов, то всегда начинал в церкви чтение положенных Уставом Церкви Деяний Апостольских. Иногда приходил в дом и здесь устраивал спевки с своим клиросом «Волною морскою» и Пасхальных песнопений, а потом опять уходил в церковь. К двенадцати часам и ранее церковь уже заполнялась народом из деревни Чернятиной и отдаленных от церкви улиц Пустошей. Торжественна была минута ожидания первого удара колокола! С этого дня служба у нас, бывало, совершалась в холодном храме и так до конца лета. Но вот ударили в колокол. Разом душа, при немом молчании всех и осенении себя крестом, у тебя приподнялась, и во всем теле как бы заползали мурашки в ожидании дальше великого, святого, благоговейного момента. И вот у тебя на глазах: народ с иконами, священник с крестом и трехсвечником, кто-нибудь из старших моих братьев с Евангелием, слышишь, как певчие дружно подхватывают начатые священником слова «Воскресение Твое Христе Спасе», все выходим из храма вокруг церкви и, возвратившись в него, вдруг на паперти раздается давно ожидаемое радостное «Христос Воскресе!». Тут душа на мгновение как бы совсем замирает, и вслед за тем тотчас же проникается какой-то неизъяснимо радостной вседовольной настроенностью, которая и не покидает тебя уже во все время Пасхальной утрени. От всей души, бывало, тогда поешь на клиросе и выходя на каждой песни канона с клироса у Царских дверей. В конце утрени, на христосовании, я обыкновенно стоял около отца и принимал от него нахристосованные яйца. О, мое невинное и наивное детство! И здесь я раз запятнал свою совесть! Соблазнившись видом одного красивого из всех яичка и, раздраживши свое обоняние таким запахом, я утаил его себе и до поры до времени скрыл на дворе в кострику завалинки. А когда отошла обедня и освятили там пасху, я, не дождавшись вместе с другими разговенья, скорее взял то скрытое яйцо и раньше других съел его, чтобы никто не узнал, — второпях и втихомолку. Съел и едва им не подавился, так как на тощий желудок и после продолжительного поста, а главное — без соли, оно и в горло ко мне почти не шло. Так и разговелся им без всякого вкуса, ни себе, ни людям не на радость, а на совести остался в том горький упрек, что воровским образом поступил! И подумал я тогда же: как Бог-то меня наказывает почти вслед за моим преступлением! Не то же ли было со мной сейчас, как и тогда, когда такую же воровскую выкурил папироску?
В конце обедни любил я смотреть на это освящение пасхи. Не одна сотня этих пасох стояла на полу; при каждой зажженная свеча и разноцветные яйца. Красивой представлялась мне тогда эта толпа молодых людей — женщин и девиц, которые стояли вокруг пасох. Первый раз после зимы они так хорошо принарядились в новые весенние костюмы, в разноцветных платках. Какими-то милыми представлялись мне их лица. Мне думалось, что и у них сейчас на сердце такая же радость, что и у меня. Господи! Как хорош этот день! Как бы хотелось, чтобы он долго-долго не проходил! В первый же день, после священника, обыкновенно у отца, часов около восьми-девяти утра, принимались в доме иконы, а затем устраивалось угощение всего причта, церковного старосты и богоносцев. Много раз, бывало, в этот день побываешь на колокольне, и непременно здесь все молодые люди плюют подсолнечники. Разумеется, и я от них не отставал — грыз. Во всю Святую неделю молодежь буквально держится больше всего где-нибудь около храма: в ограде, на могилках, на паперти и на колокольне. И это было, вероятно, потому, что на улицах в это время не принято было гулять и петь песен, как в другое время; и по вечерам в пасхальные дни молодежь гуляла очень недолго и мало. Воздерживались многие пить даже и водку. Такое воздержание продолжалось до тех пор, пока не поставят иконы в храме. Обычно хождение с иконами по домам продолжалось до Фомина воскресенья; в этот день последний раз обойдут с иконами вокруг села, и тогда уже они ставились на свое место в храме, отчего это воскресенье и называлось у нас «Поставным» воскресеньем. В течение Пасхальной недели так же и взрослые люди, кто только еще имеет силы подняться вверх по лестницам, непременно считали своим долгом, хоть раз, тоже побывать на колокольне для здоровья. «Не побываешь там, — говорили они, — значит этим годом, или вообще скоро, помереть».
Во всю Пасхальную неделю я с братом Михаилом, бывало, хожу по домам вместе с причтом. К нам иногда тут присоединялись попеть и наши товарищи, вроде Афанасия Фомина и Петра Устинова. Тогда пение на этих молебнах у нас было и вовсе хорошо. Народ, больше старушки, наполняли собой избы, много молились и стоя против окон на улице. В редком доме в то время не читались акафисты Спасителю и Божией Матери, а иногда и другие.
Дня со второго, а иногда к вечеру же первого дня, приходили в село иконы соседних сел, иная верст за 60, исключительно для сбора пожертвований на нужды тех храмов. Таких приходящих икон за всю Пасху, бывало, перебывает от сел трех или четырех, пока не было им воспрещено. Помнится, тоже хорошее и отрадное было тогда торжество, как при встрече, так и при проводах этих икон! Эти встречи (но без икон и причта) и проводы были подобны тем, какие были у нас во Владимирской епархии при встрече Боголюбовской иконы Божией Матери, по силе религиозного подъема верующих. Очень многие, бывало, как только услышат, что идут со стороны чужие иконы, далеко выходили за село и, по мере приближения к селу, все более и более возрастало численностью в громадную толпу. Проходя селом с этими иконами, обыкновенно пели «Христос Воскресе» поочередно то мужчины, то женщины, останавливаясь лицом икон к воротам (посреди улицы) каждого дома. В это время кто-нибудь из членов семьи этого дома должен был выходить к воротам со свечой. Когда пропоют «Христос Воскресе», один из пришедших богоносцев христосовался с вышедшим из дома и брал себе свечу, при этом давалась ему, судя по усердию, какая-либо денежная лепта. А когда с этими иконами подойдут к храму, то тут всенародно пели «Да воскреснет Бог» и так до конца все пасхальные стихиры. И наши пустошенцы, человека четыре-пять, бывало, также уходили с своими иконами по чужим селам и деревням, принося рублей по шестидесяти-восьмидесяти на нужды храма…