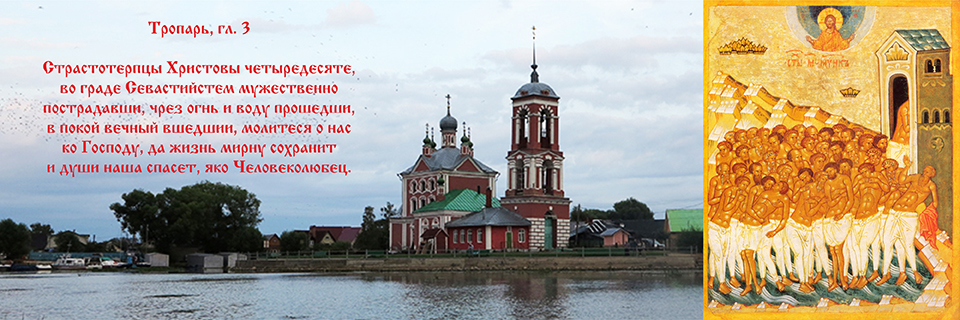Женский монастырь был открыт здесь всего в 1898 году на месте упраздненного мужского монастыря, который в последние годы едва влачил свое существование, по случаю бедности, в которую привели по небрежности и нерадению последние насельники-монахи. В нем было три храма: летний — собор во имя святителя Николая, зимняя церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и третий — над Святыми воротами, в честь апостолов Петра и Павла. Причем последний храм был монахами совершенно запущен, и вновь сделать его удобным к Богослужению потребовалось немало со стороны игумении средств и трудов. Покойная игумения Антония говаривала, что одного только голубиного помета было вывезено оттуда до тридцати возов. Когда я поступил, все эти храмы были вполне отремонтированы и благоустроены. Богослужение совершалось во всех храмах. Первая моя служба была здесь 31 октября 1907 года, когда я еще не успел переправить сюда всего, что имелось в Рыбаках. На литургии говорил первое приветственное слово. И какая же разница была в этой службе с рыбацкой! Вот где, подумалось мне, можно и самому отнестись усердней к службе церковной, да и помолиться в отраду души! К этому невольно как-то настраивало меня и прекрасное пение, сравнительно с Рыбаками, и внятное, отчетливое и неспешное чтение. Я сразу душой своей ожил, я нашел здесь себе соответствие природной настроенности, во мне пробуждалось здесь то чувство услады от Божественной службы, которое было придавлено там в приходе среди иной обстановки. Не обременялся я здесь и продолжительностью службы, которая тут выполнялась полнее и ближе к уставу. Как неделя службы моей, бывало, подходит, так и настроение поднималось все лучше; я без всякой лени, можно сказать, что и усердней старался отправлять всю службу: к этому побуждала меня самая наружная обстановка молитвы. В храме все чисто, опрятно, тепло, никогда не угарно, облачения дивные, пение стройное, света от лампад и свечей достаточно, дисциплина монахинь и прочих сестер примерная. Я не говорю о том, что сидело, быть может, в то время в их грешных душах. Сидело в них, быть может, и больше, чем в мире! Я им не судья, и их внутренняя духовная жизнь меня за службой нисколько не занимала. Но что было хорошо за их службой, то никогда не скажешь, что плохо. И вот это-то хорошее и действовало всегда благотворно на душу и сердце мое. Одним словом, я здесь нашел применение своим духовным силам, кои вложены в меня самой природой. И нигде так я не оставался доволен службой церковной, как здесь в монастыре. Это я могу подтвердить и теперь, при иных обстоятельствах жизни.
Женский монастырь был открыт здесь всего в 1898 году на месте упраздненного мужского монастыря, который в последние годы едва влачил свое существование, по случаю бедности, в которую привели по небрежности и нерадению последние насельники-монахи. В нем было три храма: летний — собор во имя святителя Николая, зимняя церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и третий — над Святыми воротами, в честь апостолов Петра и Павла. Причем последний храм был монахами совершенно запущен, и вновь сделать его удобным к Богослужению потребовалось немало со стороны игумении средств и трудов. Покойная игумения Антония говаривала, что одного только голубиного помета было вывезено оттуда до тридцати возов. Когда я поступил, все эти храмы были вполне отремонтированы и благоустроены. Богослужение совершалось во всех храмах. Первая моя служба была здесь 31 октября 1907 года, когда я еще не успел переправить сюда всего, что имелось в Рыбаках. На литургии говорил первое приветственное слово. И какая же разница была в этой службе с рыбацкой! Вот где, подумалось мне, можно и самому отнестись усердней к службе церковной, да и помолиться в отраду души! К этому невольно как-то настраивало меня и прекрасное пение, сравнительно с Рыбаками, и внятное, отчетливое и неспешное чтение. Я сразу душой своей ожил, я нашел здесь себе соответствие природной настроенности, во мне пробуждалось здесь то чувство услады от Божественной службы, которое было придавлено там в приходе среди иной обстановки. Не обременялся я здесь и продолжительностью службы, которая тут выполнялась полнее и ближе к уставу. Как неделя службы моей, бывало, подходит, так и настроение поднималось все лучше; я без всякой лени, можно сказать, что и усердней старался отправлять всю службу: к этому побуждала меня самая наружная обстановка молитвы. В храме все чисто, опрятно, тепло, никогда не угарно, облачения дивные, пение стройное, света от лампад и свечей достаточно, дисциплина монахинь и прочих сестер примерная. Я не говорю о том, что сидело, быть может, в то время в их грешных душах. Сидело в них, быть может, и больше, чем в мире! Я им не судья, и их внутренняя духовная жизнь меня за службой нисколько не занимала. Но что было хорошо за их службой, то никогда не скажешь, что плохо. И вот это-то хорошее и действовало всегда благотворно на душу и сердце мое. Одним словом, я здесь нашел применение своим духовным силам, кои вложены в меня самой природой. И нигде так я не оставался доволен службой церковной, как здесь в монастыре. Это я могу подтвердить и теперь, при иных обстоятельствах жизни.
Не судил только Бог мне жить по душам с своим братом, с сослуживцем отцом Алексием Чижовым! Не было с ним у меня во все годы серьезной брани иль ссоры, но оба мы сошлись каждый с своим, противоположным друг другу направлением, а потому и в душах наших не было ничего общего, чтобы скрепить могло нас.
С первых же дней за службой, бывало, подойдешь к нему, как к сослуживцу и равному брату, и спросишь его: «Скажите мне, как у Вас делалось то или другое во время Богослужения, чтобы не нарушать заведенный порядок, какой был до меня?» И он непременно так скажет: «Вы настоятель, делайте, как хотите!» Много раз в разное время к нему я так обращался и тот же ответ получал от него. Мысль о настоятельстве, как видно, не давала ему покоя, и он не мог примириться со мной. Бросил и я тогда такого советника и во всех недоуменных случаях стал обращаться к уставщице на клирос, которая и сообщала мне всякий раз, когда надо, о заведенном ими порядке. Так же непрочно было знакомство наше друг с другом домами. Два с половиной года ходил я с Сашей к нему всегда первый, и он, правда, в скором времени, бывало, ответит своим визитом. Но не по душе, тяжело было мне такое официальное знакомство; мало видно было в нем равенства и искренности, было в нем больше фальшивого, напускного, и это заставило меня бросить воздавать ему первый поклон. А тогда и он, конечно, ни разу ко мне не занес свои ноги. Так и жили мы с ним все годы, здороваясь и видясь только в храме за службой или же в игуменской за чаем на празднике.
Опять-таки я подтверждаю, что брани иль ругани не было с ним: я раньше знал его упорный, самолюбивый характер, а потому и старался его не задеть, чтобы сохранить мало-мальски братские отношения. А между тем он крепко пред игуменией лебезил и старался льстить через меру, чем и добился своей цели. Он отбил у диакона письмоводство по приходу и расходу денежных средств и по составлению разных бумажек при сношениях с консисторией и другими людьми. А взявши в руки это дело, он и пошел тогда верховодить во всем, вмешиваясь и в дела управления монастырем, пользуясь слабохарактерностью и добротой игумении. Приходилось мне не раз слыхать и от самой игумении, как трудно ей бороться с отцом Алексием. Здесь он и о наградах своих стал хлопотать, заставляя игумению ко всему подписываться. Но пока кончаю о нем. Много будет о нем говориться и дальше, как о бывшем герое; это геройство его, пожалуй, и унесло его тогда прежде времени в могилу.
Но не посчастливилось и мне здесь новое житье. Словно как пророческим стало то изречение матери отца Феодора, которое стало исполняться на мне! Я стал страдать головокружением во время службы церковной. Насколько она меня утешала вначале, настолько теперь я стал бояться ее. Дома же, и где бы то ни было, этого головокружения я не видел первое время и как будто здоровый был с виду. К этому головокружению в храме стали присоединяться скоро и острые боли в ней, словно как развинтился в мозгу моем винтик какой; потом дальше минутами стала ложиться на сердце какая-то неопределенная тоска; случалась она иной раз и дома, но ненадолго. Бывало, из дома к службе выходишь здоровый, а как к храму подходишь все ближе, и сердце защемит сильней, как будто чего-то боишься; а как вступишь за дверь самого храма, то и боль в голове поднимается вдруг. Но этого мало, когда выходишь, бывало, в Царские врата или же просто, когда стоишь пред престолом, при отверстых вратах, то и ноги мои тогда тут изменяли: переступаю я ими, а они, как чужие, плохо повинуются мне. Все эти проявления болезни угнетающе действовали на душу мою. При такой болезни и выйдешь в заштат, стало думаться мне. К кому только я не обращался тогда в своих молитвах, чтоб Господь укрепил мои силы на время служения! Но и в молитве той я никак не могу сосредоточиться; вместо ее ко мне идут иногда даже богохульные мысли. Долго стоять пред престолом покойно тогда я не мог; мне непременно нужно было для бодрости духа отойти куда-нибудь в сторону, чтобы рассеять в голове тот кошмар. И я так и делал тогда, отходил, как будто за делом, к окну, жертвеннику или книжному шкафу и здесь в чем-либо роюсь, как будто желая чего-то найти. Это делал я с тем расчетом, чтобы посторонние не могли заметить во мне угнетенное состояние духа, думая то, что если другие узнают о моей такой странной болезни, тогда большая мнительность вконец доконает меня. В этих же видах я и домашним не все о себе открывал, что творилось со мною в храме; да они многому мне и не верили, все объясняя простой моей мнительностью. Но вот кончилась служба, и я стал здоров, я чувствую, что во мне все нормально…
… В Петрограде мы были в январе тотчас же после святок 1911 года, а когда наступила весна, нам обоим захотелось побывать у преподобного Серафима в Саровской пустыни. Этот угодник Божий — недавний. Только с 1903 года он причислен к лику святых. В душе еще живы те чудеса, которые были связаны с личностью этого старца пред его прославлением. А еще раньше того, до его прославления, ходивши с святой водой в Рыбаках, в одном доме видел я снимок с него, как, например, он кормит руками медведя. Когда же еще и в печати пошли живые сказания очевидцев, как он близок к душе припадавших к молитве его и как-то здесь, то там слышны были его чудеса, утверждаемые всегда клятвенным показанием перед Богом, — это невольно потянуло меня с Сережей туда, в Саровскую пустынь. Время было выбрано мной для этой дальней поездки самое удобное и приятное: последние дни месяца мая. Путь я избрал через Ярославль, а от него по Волге на пароходе до Нижнего, а там до Арзамаса по железной дороге, а от Арзамаса на лошадях верст 60 до Сарова. С точки зрения эстетики лучшим путем в этой дороге была поездка по Волге. Хотя и был взят мной для большего покоя и удобства номер второго класса, но в нем находились мы мало, предпочитая любоваться видом с верхней палубы, и только темная ночь заставила нас до утра укрыться в нем на постели. Какие встречались красивые берега самой Волги; то были по сторонам ее высокие горы, покрытые лесом, то встречались, как будто на утесе с оврагами, жилые строения среди цветущих садов, то открывались большие равнины, покрытые весенней природой лугов и цветов. Словом, встречались всевозможные виды, которыми мы наслаждались. А как плавно идет пароход! Какие величественные повороты он делал перед каждой пристанью, где ему была остановка! Не оторвешься, бывало, никак при этих чудных картинах. Одного только тут нам не хватало: что оставшиеся дома семейные ничего подобного не переживают и не видят, а только мы вдвоем, счастливцы, наслаждаемся этой не испытанной раньше картиной: нам думалось, что если бы тут была вся наша семья, то и переживаемое удовольствие было б полнее. Наблюдая с палубы, при встречных пароходах, мы поражались отваге и храбрости многих людей, любителей сильных ощущений, как они на маленьких лодочках старались нарочно попасть, как пройдет пароход, в самые высокие сильные волны, где лодка под ними металась и ныряла, как щепка. Иной раз прямо-таки становилось мне жутко и страшно за таких смельчаков!
Вода на Волге, из которой мы пили чай на пароходе, очень мне не понравилась: таким щелочным вкусом она отдает. В этих видах, чтобы найти лучшего чаю, остановившись в Костроме, я пошел было в трактир, но и здесь, оказалось, я обманулся: вода была та же, что и в Волге. В городе Нижнем, до прихода поезда, кое-где мы побывали с Сережей, ездили на трамвае в ту часть города, где каждогодно развертывается знаменитая на весь свет Нижегородская ярмарка; раз поднимались и спускались в какую-то крутую гору на элеваторе, что раньше нигде не приходилось встречать. Снаружи глядеть было страшно; а как сядешь подняться или же спуститься вниз, то никакого страха и не ощущаешь, сидишь, как в обычном вагоне. Приехавши здесь на вокзал, который отправляет в Арзамас, я поразился повсеместным объявлениям на стенах и заборах: «Берегите свои карманы». Должно быть, что много здесь водится всякого вора! В Арзамас приехали ночью и тотчас же наняли в пару лошадей экипаж и отправились в Саровскую пустынь. Этой дорогой было самое худшее место и утомительное. Извозчик же попал не из добрых; ехал больше он шагом. Дорогой часто встречались поля и небольшие лесочки, под ногами больше песок. Одной пыли в дороге сколько мы тут нахватались! Но зато, верст за пять—за шесть не доезжая Сарова, какой огромный сосновый корабельный лес стал встречаться по дороге! Такого леса, хотя я родом из лесной стороны, где много было всяких лесов, но такого, что здесь, я не встречал никогда. Кверху взглянешь, бывало, ужаснешься дерева росту, а слезешь с Сережей с повозки, обоймешь руками вокруг, то часто не хватает двух пар наших рук. Вот в каких лесах подвизался великий угодник Саровский. На душу повеяло здесь какой-то благодатью, тут все как будто дышало молитвой, и большая отрада постепенно, с приближением к месту, к которому так сердце стремилось в минуты болезни, говорю, что радость, отрада тут стала вливаться в наши сердца. Как живо, наглядно, среди таких исполинов-деревьев, вспоминая многие выражения из акафиста преподобному Серафиму, представлялась мне его богоугодная жизнь среди такой чудной природы, жизнь, посвященная делу любви к страждущему и алчущему духовной пищи человечеству. Как в храме ином, где идет хорошая служба с задушевным пением, чтением, с живым, теплым и искренним словом проповедника — пастыря, стоишь усердно в благоговейном внимании, мало рассеиваясь иными мечтами, так вот и здесь в этом благодатном, молитвой веющем месте, я немного испытывал иных мирских ощущений: в душе тогда было больше духовной настроенности. Тут и утомление от дальней дороги, которое только что пред этим так сильно давало знать о себе, как бы вдруг улеглось, как будто его не бывало. Бодро душой вел себя и Сережа.
Приехали до полудня в Саров. Отвели нам бесплатный номер гостиницы. Конечно, без благодарности-то мы не оставались за предоставленный нам приют: вложили свою лепту в монастырскую кружку, по силе возможности; но только надо сказать то, что установленной платы тут ни с кого не взималось и лицами, служащими тут, не предъявлялось, как должная плата. Тотчас же мы побывали в храме преподобного, помолились перед ракой с мощами, а потом, попивши чаю и подкрепившись пищей, пошли в Ближнюю и Дальнюю пустыньку в лесу, где в келье подвизался угодник.
В Ближней пустыньке, где был колодец и источник преподобного Серафима, мы оба приняли обливание холодной водой, сделанное тут в особом здании в виде душа: где вода брызжет сквозь сетку, а где она бежит и ключом, или же в виде широкой или узкой ленты. Оживляюще действует на тело это купанье! Самое здание купальни разделяется на две половины: в одной раздевальня, где приготовлены для желающих простые лапти из лык — при двери, ведущей в следующую половину; в другой — самая купальня. Переступив порог двери, здесь каменной лестницей (из плиток) спускаешься ниже; пол тоже плиточный, а по стенам устроены самые души. Помню, лаптями мы не захотели воспользоваться, но зато без них, как только вступили на тот плиточный пол и лестницу босыми ногами, как же было тогда холодно! Ступни ног так и защипало. Самое обливание холодной водой, вероятно, градусов близ четырех, это не то, что душ дома, кому приходилось к нему прибегать. Тут не то состояние духа, не обычно, как дома, где под влиянием холода возможен и крик, а когда бываешь вместе с другими, то нередко услышишь и смех; одним словом, там, дома, вырываются наружу внешние проявления духа; тут же, в купальне святого, — душа занята совершенно другим; тут уста прибегают с молитвой к угоднику Божию; тут во время обливания водой только и видишь, как другие себя осеняют крестом, и слышатся молитвенные воззвания к Богу. И обстановка такая действует на душу всегда благотворно и умиротворяюще и тем более, что большинство людей прибегает к такому купанью с верой в Бога, по молитвам святого избавиться от своего недуга, который и заставил главным образом прийти сюда. Я, в купанье, стал под решетчатую сетку, но и полминуты не мог, не отрываясь, сдержать своей головы: насколько вода была холодна! Когда же шел одеваться, то пол и ступеньки той лестницы казались мне теперь теплыми, и от тела шел небольшой пар, как будто бы в бане. Отсюда с Сережей пошли еще дальше; тут на дороге, в лесу же, под устроенной сенью, где крест был поставлен с изображением Господа, смотрели тот камень, на котором преподобный коленопреклоненно подвизался в молитве тысячу дней. Потом смотрели и Дальнюю пустыньку, где преподобный избит был разбойниками едва ли не насмерть и где кормил он руками медведя. Ворочаясь назад на ночлег, по дороге, опять мы с Сережей обливались водой на источнике.
Поутру мы встали в третьем часу, когда другие давно уж молились у заутрени в храме преподобного Серафима. И здесь, дорогой ко храму, нельзя было остаться спокойным от той мощной силы веры, которая так влекла всякого в храм помолиться: и старый и малый, богатый и бедный, ученый и неуч, больной и здоровый, пришедшие из разных мест и губерний, перегоняя друг друга, старались занять скорее свое место. Трогательная картина для сердца! По окончании службы, с дозволения местного настоятеля храма, я сам же служил и молебен перед святыми мощами. После меня опять начался молебен, третий, четвертый… и так далее в продолжение целого дня. Усердие верующих прямо-таки поразительное. Тут у раки преподобного проливаются каждодневно реки слез, а особенно тех, кого собственная нужда или немощь заставили прийти иль приехать сюда. Особенно заметно это усердие было среди вологодских крестьян и крестьянок, которых безошибочно можно всякий раз признать, как по наречию, так и по виду костюмов. После службы, не пивши чаю, мы опять пошли на источник, чтобы, с мыслью об укреплении своего здоровья, третий раз там под душ подойти. По пути удивительно много в разных местах встречали мы разных убогих калек: безногих, безруких, слепых, нищих, просящих себе на кусок хлеба во имя Христово.
Из Сарова мы проехали на том же извозчике в Дивеев, где был многолюднейший женский монастырь и где сохраняются некоторые предметы отца Серафима. Нужно сказать, что в сладость души и отраду мы тогда побывали в Дивееве. Если бы были средства в кармане теперь, то с удовольствием бы еще раз там побывал. И это тем более, что теперь, несмотря на такое тяжелое и смутное время для веры, религии, но обитель преподобного Серафима до сих пор сохранилась, и массы богомольцев, говорят, посещают ее. Все это дело, конечно, молитв преподобного Серафима, который сумел оградить это место святое своим покровительством верных. Так и будет, если только своими грехами мы больше не будем прогневлять Господа Бога! И пошли нам Бог эту крепкую веру и несумненну!
(По случаю большого паломничества богомольцев в Великом посте сего 1927 года монастырь закрыт)…
…Входишь в храм к утрени. Вокруг Плащаницы уже есть богомольцы. На лицах их скорбь и какое-то трепетное благоговение. Кругом тишина, как будто боятся нарушить покой для тяжелобольного. Стоят все так тихо; никто не скажет неуместного праздного слова. По углам Плащаницы четыре подсвечника с большими свечами и множеством малых… Началась утреня… Запели на клиросе «Бог Господь и явися» чудного древнего распева по нотам. Выходим из алтаря к Плащанице и мы, оба священника. А здесь уже четыре пары лучших голосов монастырского хора стоят против каждого угла Плащаницы, которые, вслед за клиросом, так тихо-тихо, как будто далеко, с любовью сердечной в благоговейной тишине среди народа и начинают петь так душевно: «Благообразный Иосиф…» Это было действительно тревожащее сердце, сквозь скорбную душу выходящее, печальное, умильное надгробное пение! Иные из певчих и сами пели со слезами, а те, кто их внимательно слушал, и вовсе не могли удержаться от слез, а у кого не было слез, то все же, наверно, скорбели душами. Мне запомнилась раз одна такая «плачевная» служба, когда вблизи гроба Спасителя стояли какие-то дальние богомолки с котомками и с большими свечами в руках. То ли их неволя какая застала в дорогу и заставила встретить этот великий день в молитве у нас, то ль душа у них была такая святая и мягкая, что всем сердцем они так тогда глубоко скорбели, сознавая, что ведь наши грехи уложили Спасителя во гроб! Не знаю, чем объяснить, что они обливались так сильно слезами. Но только то я скажу, что вид этих плачущих чужих богомолок, кто их заметил тогда, не мог сдержать и других, слабых сердцем, от слез. Вот это так души, угодные Богу! — подумалось мне. Эти их слезы — лучшее миро для Господа во гробе; такую молитву их примет Господь, за эту любовь и признательность сердца Он не оставит таких без награды!
«А как многие из нас, приходит сейчас мне на ум, стыдятся на людях показать свое отношение к Богу! Стыдно сказать, как в настоящее время, например, иные стесняются делать при других крест на себе, когда, например, идут мимо храма, иконы, или же сесть за обед, помолясь. Несчастные и жалкие люди, я скорблю душой за таких! Отвергающие Его пред людьми, по слову Спасителя, будут сами отвержены Им. Знают ли это те двоедушные люди?»
Так же трогательно поют дальше эти окружающие Плащаницу певчие: «Мироносицам женам, при гробе представ, Ангел вопияше…» Да и вообще вся служба Великой Субботы — самая лучшая служба в году. Особенно прекрасен момент за литургией. Это — когда после Апостола пред Плащаницей солистки-певчие поют: «Воскресни, Боже, суди земли…» и прочее, тогда как в это время священнослужители переоблачаются в белые одежды, переоблачают и Святой Престол в такие же белые, и вслед за тем читается Евангелие о Воскресении Христовом. Удивительное в это время состояние души! Тут и скорбь, и радость — какие-то смешанные слезы, но радость какая-то еще неопределенная. Почему-то этим моментом напоминается мне (подобное же) состояние души у жен-мироносиц, когда они пришли ко гробу и видят здесь: гроб открыт… тела Спасителя нет… Самого еще не видят, а Ангелы им говорят, что воскрес Он… и что они Его встретят… У них радость и недоумение!
«Господи! До чего же хорош этот день по тому переживаемому душой чувству, которое управляет сердцем во время Богослужения этого дня! Тут остается только искренно пожалеть и сказать, как несчастны те из людей, которые не бывают в этот день в храме на утрене и на обедне! Как много они теряют для своей души, проводя время вне храма в обычной сутолоке той жизни!»
Теперь еще остается впереди лучший момент. Это — перед Святой утреней, когда с крестным ходом обойдешь вокруг храма и, остановившись на паперти, когда запоешь «Христос Воскресе!» Но об этом моменте я уже не буду вновь говорить: он у меня был описан в воспоминаниях детских годов. Этот момент также мне дорог и мил, каким он казался мне в детстве, с тем только разве различием, что во взрослом, а сейчас даже можно сказать — почти в старом возрасте, внешность моя не проявляет наружу так открыто и заметно для другого того восторга и радости духа, который больше заметен был в детских годах. Но душа моя, скажу, по-прежнему витает в той радости праздника, внутренней жизнью я чувствую себя в эту ночь молодым, и хожу тогда я с кадилом по храму, как говорится в песне канона, «веселыми ногами, Пасху хваляще вечную»…
…Заставивши насильно, не помнившую ничего о том дне, больную игумению подписаться к прошению о своем увольнении, отец Алексий не оставил ее покойно доживать хотя бы в одной из тех игуменских комнат (а их пять) до конца своих дней. Он устроил для нее торжественный вывод в одну из келий, в общем коридоре сестер. Составлен был им адрес от имени причта и сестер, за подписью всех. Мне же, почему-то, те две власти не хотели его казать; подписи моей и не было бы там, если бы сама старая игумения того не пожелала и вовремя не сказала мне, что для нее приготовлен ко времени вывода к игуменской какой-то адрес. Так и другое все новая власть старалась делать от меня втихомолку и во всем обходила меня. Перед самым выводом из игуменских покоев, когда собрались туда уже все сестры, я заходил к ней проститься, как с бывшей доброй игуменией, которую я высоко ценил за ее миролюбивую и добрую душу, Помню, сидела она тогда в своей спальне за ширмой одна. повесивши голову, а сама вся в слезах. Передо мной только что уехала от нее игумения Евгения Феодоровская, так же, как и я, не пожелавшая быть на этом позорище. Глядя на униженную к оскорбленную, плачущую матушку игумению, трудно было и постороннему не возмутиться душой, так и я с ней тогда заплакал. Крепко ж тогда она поцеловалась со мной! Вот где, казалось мне, похожее подобие того бесчеловечия, когда так же, как к сейчас, «князи людстии собрашася вкупе на Господа!» Там за правду, добро и любовь ко всему человечеству фарисейски становились на колени и говорили: «Радуйся, Царь Иудейский!», а потом дали крест и повели на Голгофу Царя. И Иуда, целуя Господа, сказал: «Здравствуй, Учитель!» и тотчас же предал Его… Так и здесь, подобно тому же: за добро, ласку и любовь, что видел каждый от игумении в этой обители, сейчас ее будут величать и восхвалять составленным чтением адреса, а потом дадут крест жить в келейке грязной средь шума и гама, вместо того, чтобы дать покой отживающей последние дни земной жизни, чтобы она могла в мире души сосредоточиться в Боге, чтоб к Нему отойти, для Которого давала обеты монашества.
«Отец Алексий! Благодарность ли это? Как ты одурманил выдумкой этой всех слабовольных сестер! Но ведь у тебя голова развитей: почему ты не усумнился в достоинстве твоей пошлой затеи и довел ее до конца? А сестры-то вот, хоть и неучи были, а гляди-ка, они оказались умней: они оттолкнули тебя, когда ты взял под руки, с женой своей Надей, несчастную жертву твоего издевательства и всунул ее, как недостойную лучшего, в какую-то келейку грязную. Впрочем, что говорить? Зато после тебе самому хорошо и свободно так было в пустых тех игуменских комнатах выдумывать зло для сестер же — паствы твоей, чтобы оно, созревши в них, тебя самого в конце подавило».
Немного матушка игумения пожила в своем новоселье. Она здесь скончалась скорее, чем ожидали, и потому, говорят, сказал доктор, что дух был убит в ней пережитой историей, но кем убит, того не сказал. На погребении ее было пролито много слез. Все плакали, как по самом близком родном человеке. Пред отпевом мною было сказано прощальное слово, посвященное воспоминанию ее доброй, примерной жизни. Это была действительно симпатичнейшая, добрая, ласковая и любящая старушка.
«Царство Небесное тебе, моя дорогая! Мир праху твоему, вечная память и слава твоей скромной, незаметной для шумного света, но зато великой и угодной Богу жизни твоей!»…
… Отец же Алексий в это время еще продолжал бесчинствовать в Никольском монастыре. Теперь он стал с церковной кафедры в храме открыто клеймить и ругать меня и монашенок, возводя на нас гнусную клевету. По его словам, будто бы нами подкуплена одна монашенка, которая стоит пред воротами монастыря и отговаривает всех ходить к нему молиться, так как он еретик. В проповеди говорит по имени: «Отец Евгений не велит».
Этой своей неоднократной руганью в храме он довел всех до того, что и его избранное стадо перестало ходить в храм и петь на клиросе. Интересно, как он встречал последний престольный праздник в монастыре — Сретение Господне (1923 г.). У меня на утрене и за ранней обедней был, по обыкновению, полон храм молящихся, а пришел отец Алексий служить позднюю обедню, кроме необходимых для службы — свечница, звонарка, ризничая и еще два-три человека, и ни одной певчей на обоих клиросах! Пришлось тогда ему разоблачать диакона, который и стоял на клиросе, чтобы петь и читать. Но за это, должно быть, дней через пять и выставили нас всех из храма, когда мы пришли молиться к вечерне! Здесь тогда уже сам отец Алексий с чинами милиции и другими должностными лицами описывал и принимал все церковное имущество; по окончании же описи к дверям храма были повешены замки с печатями, и монастырь с тех пор перестал существовать. Это было 7/20 февраля 1923 года…
… Особой памяти в моих воспоминаниях протекшей жизни следовало бы мне дать место подробному сказанию о 50-летнем юбилее священнослужения папаши в Шекшове, как заслуживающем особого внимания по силе душевного впечатления, но я это описание намеренно опускаю, предоставляя каждому моему сыну и дочери Лиде прочитать полученную всеми от папаши-тестя книжку о том юбилее. Я лучше того не скажу, — в ней так живо и правдиво схвачено действительное жизнерадостное настроение всех участников того редкого семейного торжества, и вот уже, прочитавши ее, пусть продолжает чтение и настоящих моих воспоминаний. Я воздерживаюсь от описания того радостного, веселого и благодушного дня еще и потому. что теперь это воспоминание близко соприкасается у меня другому воспоминанию, но уже не соответствующего душевному настроению свойства, более тяжелого и печального характера: так как в то время, когда мы — участники юбилейного торжества за обедом произносили тосты и речи, пили вино и ели изысканные блюда, что хотелось душе, когда кричали многократно громкое «ура», а вечером пели на все струны весело настроенной души разные песни, то в это же самое время у меня в родном доме, на родине, лежал бездыханный труп моего родителя — милого тятеньки, умершего в этот день утром. О папашином том радостном дне юбилея оставлена память в печатном труде моего младшего свояка, теперь уже покойного, Василия Арефыча Беляева, а я, хоть в этих дальнейших строках, немного скажу в память своего покойного отца о последних днях его жизни в назидание внукам. Умер он 16 февраля 1914 года, проживши 84 года на свете, умер в твердом сознании и памяти.
Когда сестра Анна, видя его ухудшающееся час от часу положение, сказала ему: «Тятенька! Не пособоровать ли тебя?» — то он на это ответил: «Да, Аннушка, это недурно, хорошо это сделать: ведь и Мария, в Евангелии сказано, помазала миром ноги Спасителя и этим предуготовила Его тело к погребению; сходи поскорее к священнику». И сестра пригласила священника. Но последний много часов по своей небрежности и нерадению заставил ждать своим приходом больше и больше слабеющего отца. Все это время он сидел в переднем углу у икон в благоговейно молитвенной настроенности к ожидаемому Таинству. До самой почти смерти он в состоянии был двигаться на собственных ногах, одной рукой придерживаясь за стену, а другой опираясь на палку. С вечера сам сумел залезть на печку, а потом вскоре, когда стало ему, по его словам, тошно, при помощи сестры, слез обратно вниз, дошел сам до дивана, лег здесь, перекрестился, как бы приготовляясь к встрече своей смерти. Ночь себя он вел тревожно, по временам забываясь и тяжко дыша. Но все же сестра никак не могла полагаться на скорую смерть. Вставши под утро, она спокойно оставила отца, у которого в это время были в горле какие-то хрипы, не разбудила даже и приглашенную к себе на эту ночь женщину, сама пошла минут на пять—на десять доить корову. Приходит домой, женщина та еще не поднималась с постели, постланной на полу близ отца, смотрит в сторону отца, он лежит успокоенный от хрипа, подходит к нему, а он уже мертвый.
Когда я приехал с юбилея домой в Переславль, мне сказали, что ко мне уже не раз приходил почтальон с телеграммой, когда я был в Шекшове. Теперь же, получивши ее, я рассчитал, что на погребение его я уже не успею приехать, так и не поехал туда, хотя после и сожалел о том, что так сделал, так как драма все время меня поджидали, для чего и оставили отца в храме после обедни до вечера, и когда уже увидели, что и вечерний поезд пришел, а меня все еще нет, тогда уже поздно его отпели и схоронили. Видно, что не суждено было мне Богом в гробе видеть отца. Но зато в скором же времени после Пасхи я постарался быть в Пустошах, чтобы воздать последний сыновний долг умершему.
Помню, как с приближением к своей станции мне стало трудней и трудней ка душе. Когда же сошел я с вагона и пошел по дороге тут лесом и родными полями, где все мне будило изжитое в детстве под любовью отца, всей семьи, и что все это теперь навеки потеряно мной, так думал я, озираясь кругом, о как мне тогда стало грустно! Какой неповоротливый ком застрял у меня в горле, и я невольно заплакал. (В этот же раз, перед своей поездкой сюда, я из Переславля тяжелой скоростью отправил крест и железную решетку на могилу отца.) Помню и сестра моя Анна встретила меня со слезами. И когда ока мне рассказывала вот эту историю. только что переданную мной, историю последнего времени жизни и смерти тятеньки, я все время утирался платком от катившихся слез. Жалко мне было отца, хотя и пожил он, слава Богу, немало. Схоронили его в ограде, недалеко от правого клироса, как ему и хотелось. Говорил кто-то мне, не помню, как отец мой об этом высказывался — серьезно ли, в шутку ли, дескать: «Схороните меня подле правого клироса: как услышу я пение в храме, так и я тогда подтяну!»
В этот приезд свой на родину мне пришлось, между прочим, услышать очень приятный отзыв о моем отце от священника — его духовника, который и схоронил его: «Во все мои многие годы, а священствую я более пятидесяти лет, я ни одного не встречал в жизни такого, кто бы так сердечно, глубоко, всесторонне исповедовал свой грех, как Ваш покойный отец», — сказал мне этот священник. И это так должно тому быть, справедливо, прибавлю я от себя: в своей жизни был он добрый, кроткий, смиренный, незлобивый, правдивый, честный, не имевший никогда врагов у себя, долг свой псаломщика добре правящий, молитвенный и усердный к Богу. Я не слыхал о нем худого слова ни от кого от прихожан, всегда любивших и жалевших его. Он, бывало, не ляжет без молитвы на сон и не встанет утром не помолясь; не окончив своего молитвенного правила, он не возьмется раньше за дело. Помню, погасят на ночь огонь, пойдешь с ним спать на сушило, а он долго-долго молится Богу, ляжет в постель и здесь долго крестится, всех нас и все свое — постройку: дом, двор, сарай — все окрестит. И вот что я помню в жизни своей: был я еще малым ребенком, горели дома против нас, а наш дом вблизи уцелел. Другой раз я помню, жил еще в семье, мне было тогда лет семь-восемь, у нас на дворе подле стены кто-то из чужих подбросил огня в стружки и щепы, и они загорелись; ударили раз пять уже в колокол. Я услыхал (в ближайшем лесу на Маслянке собирал ягоды с другими мальчишками), выбегаю из леса, идет дым у нашего дома, прибегаю домой, двор полон народа, идет гвалт (крик) и шум — вижу, что у нас был пожар и его погасили, только нижние бревна огнем опалило и дальше ему не дали ходу. Третий раз случился пожар в начале двадцатого столетия; сгорело тут больше сотни дворов, и все это вокруг нашего дома, но дом наш стоит доселе невредим, но уже изгнивший много от времени. Раз только в близком соседстве с другими горевшими постройками и у отца сгорели на огороде овин, амбар и сарай. Это случилось в мои годы ученья. А вот еще был поразительный случай. Раз мы возвратились домой с сенокоса на Бибиковом. В наше отсутствие, по обыкновению, домовничать оставалась только одна няня. Кто-то из нашей семьи по делу и полез на чердак и что же там видит? Печной свод широко расползся и самое деревянное основание под ним все обгорело. Получилось тогда впечатление, как будто там кто посторонний погасил тот огонь и не дал вспыхнуть всей кровле и дому. Быть может, в таком опасном виде уже и не раз топилась печка няней?
Скажите, не милость ли это Божия почивала на отце? Не его ли осенение образом креста, которому каждодневно вверял все живое и мертвое тут на дворе и в доме, спасало его не один раз от огненной стихии? Великое дело — сила молитвы родительской и символа нашего спасения — Креста!
«Дети! Развратный нынешний век, в это теперь он не верит; но не живите вы так, твердо держите вы в памяти случаи этой небесной помощи как в собственной жизни, так вот и из жизни вашего дедушки, который и сам делал благое, чтобы ту помощь привлечь».
В один из приездов моих в Пустоша, когда был отец уже немощным, я спросил как-то раз: «О чем это, тятенька, ты так долго молишься Богу и кого поминаешь на молитве своей?» И вот тут он мне поведал все подробно, за что и кого он поминает, какие псалмы и какие молитвы читает. Сотой доли во мне нет из его умной, памятливой молитвы, с которой он каждодневно обращается к Богу! Недаром его Господь и наградил вот таким долголетием и мирной кончиной. Он не умер, а уснул, как это и предположила сестра, ушедши от него на двор доить корову. Дай же Бог ему за эту любовь и приверженность к Богу и людям получить от Него великую награду в Царстве Небесном!
«Вечная память тебе, дорогой! Недолго осталось и всем нам, детям твоим, находиться в разлуке с тобой! Вот ныне годом ты встретил сестру нашу — Машу (умерла 2/15 апреля 1927 года, 71 года), а за ней, глядишь, скоро уберется с земли и другой кто из нас!»
Ведь все мы, оставшиеся, стары уже стали: у всех притупляется взгляд, уши — невнимательны к слуху, нет бодрости духа, силы телесные во всем изменяют и весь вид наш теперь изменился, вылинял и окрасился в старческий цвет. Вот я хоть и смеюсь своим детям, что я переживу тебя, дорогой мой родитель, на полдюжину лет, но нет: это не сбудется, не то стало время! Ты, тятенька, помню, на старости лет, когда был на покое, так говорил мне когда-то: «Благодарю я Бога за все, на все мне хватает, что пить и что есть, при помощи вашей — детей; Аннушка охраняет и покоит меня, чего мне еще надо? Вот одно только тревожит меня, как она будет жить после меня?» — Не то у меня! В самом деле, вот какая теперь получается разница в старости нашей! У тятеньки был собственный угол, где жил; он получал пенсию за выслугу лет, шли ему и проценты из эмеритальной кассы95 с собственных денег. Ко всем этим собственным средствам немного требовалось со стороны ему помогать. Я же с супругой сейчас гол, как сокол. Обстоятельства времени (революция) отняли все средства у нас. Остается единственная надежда рассчитывать на помощь детей. Тревожит нас и та мысль теперь: как бы дети не возроптали на нас и не были бы мы им на старости в тягость? Когда увидят нас беспомощными инвалидами и без куска насущного хлеба, они скажут тогда: «Вот жили люди на свете долгие годы, пили, ели в жизни все вволю, мало в чем чтобы отказывали себе, а пришла дряхлая старость, у самих нет ни гроша, ничего и нам на память о себе не оставили из нажитого!» — одним словом, возможен упрек памяти нашей. Но вместо же этого нашего материального лишения приходит мне сейчас на ум вот такое суждение в утешение себя и детей: отсутствие в нашей прожитой жизни скупости, алчности и стяжательности, пустой расточительности, уменье жить на собственную копейку, добытую законным и честным путем, не избалованные ничьей чужой помощью, — все это не отразилось ли на душевном складе детей? Ведь, благодарение Богу, надо сказать, что пока в детях не видно плохого; нет в них ни корыстолюбия, ни скупости, ни жадности, ни зависти к жизни другого; нет в них стремления пожить на чужой счет, на нетрудовую копейку, замечается и воздержанность жизни во всем, нет черствого сердца к несчастью и горю другого, мягкость же и доброта души замечается в них даже и посторонними, как это мне приходилось слышать от многих. Это ли не дорогое сокровище, которым их Бог наградил? Устоит ли перед ним какой материальный расчет? Не душа ли есть больше тела? — сказано в Евангелии. «Нет, дети, не поминайте нас худо: вас Бог не оставил, Он все же по-Своему вас наградил! А видя вас в этом счастливыми, и нам будет легче свой век коротать, если приведет Бог пожить нам и в старости, лишь бы только не загрязнить нам самим свои души подобным ропотом на свою обездоленность средствами».
Я теперь нередко вспоминаю жизнь отца и сопоставляю свою. Как меня Бог с ним приравнял! При этом сравнении я, конечно, не подвожу себя и его под одну мерку: я жил и пока живу, скажу, при более лучшей материальной обстановке, чем он, но ведь жизнь того и другого нас привела, так сказать, к известной рамке, вкусу и установившимся годами требованиям: я привык жить так, он по-другому. И вот сейчас у нас получилась такая картина: он, когда растил детей, имел нужду, большую заботу, не был покоен душой, скорбел; зато в старости он был доволен, покоен и жизнью своей тогда он утешался. А у меня? Наоборот, растил я семью в материальном довольстве без всяких забот и в покое; сейчас же, под старость, в скудости, в заботе и в душевной тревоге. А ведь как теперь тяжело приноравливаться, вкусивши раньше сладкое, к горькому! Но этой своей излишней заботливостью и думой, быть может, я, грешным делом, забегаю далеко вперед? Ведь у Бога всяких милостей много, отец покойный не похвалил бы за это меня, а потому я кончаю скучную, наверно, для читателя эту унылую песню.
Вот как наша жизнь стала клониться к упадку, от покоя к заботе и тревоге, морально и материально! Душевная тревога у нас началась еще с Германской войны, когда сын наш Володя, только что кончив семинарию, был взят на войну.
 Правда, перед войной он было поступил в Московский университет учиться, но месяца через полтора его попросили отправиться на фронт. И тут он опять хотел было отсрочить военщину, поступив в военное Александровское училище, из которого месяца через четыре был выпущен прапорщиком, но тотчас же был отправлен на фронт. И вот с этих пор заболела наша душа, тревожась судьбой несчастного сына. Интересны были письма его из тех мест, где ему приходилось служить, но они нам не приносили покоя, а особенно когда он писал о боях. Помнится, как в одном месте, писал он, солдаты, и он с ними, лежали в наскоро вырытых руками ямках, а неприятельские пули свистели над ними перекрестным огнем и решетили им спины. Чтобы не лишиться совсем покоя, я тогда и не старался вдумываться в эту тяжелую картину, но все же, помню, не мог это сделать, — ляжешь, бывало, в постель и многие ночи ворочаешься с бока на бок от мыслей кошмарных.
Правда, перед войной он было поступил в Московский университет учиться, но месяца через полтора его попросили отправиться на фронт. И тут он опять хотел было отсрочить военщину, поступив в военное Александровское училище, из которого месяца через четыре был выпущен прапорщиком, но тотчас же был отправлен на фронт. И вот с этих пор заболела наша душа, тревожась судьбой несчастного сына. Интересны были письма его из тех мест, где ему приходилось служить, но они нам не приносили покоя, а особенно когда он писал о боях. Помнится, как в одном месте, писал он, солдаты, и он с ними, лежали в наскоро вырытых руками ямках, а неприятельские пули свистели над ними перекрестным огнем и решетили им спины. Чтобы не лишиться совсем покоя, я тогда и не старался вдумываться в эту тяжелую картину, но все же, помню, не мог это сделать, — ляжешь, бывало, в постель и многие ночи ворочаешься с бока на бок от мыслей кошмарных.
А тут подошел год революции. Не испытавши и не видавши ни разу всей неизбежной обстановки при перемене правления, я тяжело переживал каждый выстрел из винтовки в вечернюю пору или в неурочную пору середь белого дня: мне думалось все, что убивают кого-то! Я же, трус по природе, но сердобольный ко всем, во всю свою жизнь избегал стоять даже близко или смотреть, как отсекают голову курице или как режут барана. А было тогда объявлено военное положение в городе, чтобы с таких-то часов никто не выходил из дома за ворота. Бывало, идешь к вечеру с озера, выкупавшись, услышишь где-нибудь выстрел ружейный и побежишь скорее домой, чтобы не увидали тебя сторожевые с винтовками; и здесь, дома, тебя встречают тревожно, что, дескать, замешкался там? Россказни всякие, что вот тут-то был обыск, того посадили, а вот там расстреляли, — все это действовало на меня угнетающе. Покойной настроенности во все это переходное время во мне уже не было, я опасался за себя и других до тех пор, когда мало-мальски не пришло все население к умиротворению.
Скоро подошел и голодный восемнадцатый год. В нем стало не легче. Сначала тревожные газетные известия, что во многих местах умирают от голода люди, как мухи. Печаталось, что были случаи питания телами умерших людей. Весь скот домашний, лошадей, собак и всякую дохлятину переели. Господи! Что же это будет такое? Долго ли это так может продлиться? И вот в душе моей такие всегда тяжелые и мрачные мысли роятся. Обычный, мирный семейный образ жизни нарушился; другие разговоры стали заводиться в семье тревожного свойства: а что будет с нами? Как мы проживем до урожайного года? Между тем революция шла своим чередом, она углублялась все дальше. Издан был декрет об отделении Церкви от государства. Из газетных известий почерпались нередко тревожные вести, например, сообщалось, что в городе Туле разгоняли крестный ход стрельбой из винтовок. Я не берусь дать объяснения почему, по каким побуждениям тогда верующие города вздумали устроить и здесь крестный ход по всем монастырям и по городу; духовенству же через благочинного было высказано тогда пожелание в тех храмах, куда придет крестный ход, произнести соответствующее этому народному торжеству поучение в своем храме. Ход был рассчитан на два праздничных дня; он был к храмам Никитского монастыря, Никольского и Даниловского. Мне, как служившему в Никольском монастыре, пришлось говорить слово; говорил о значении храма в жизни христианина, а отец Алексий говорил свое поучение в холодном храме: были молебны в обоих храмах одновременно. Надо сказать, что верующих настолько много участвовало в этом ходу, что такого стечения я никогда не видал здесь за все мои годы священства. Этому располагали и чудные, тихие, зимние, солнечные дни. Масса икон и хоругвей носилась верующими в этом ходу. Солнечный блеск от них часто отражался в свежем воздухе и бил всем по глазам, кому хотелось смотреть. Воодушевленное пение участников хода «Христос Воскресе» и прочих пасхальных песнопений гармонировало настроению верующих при чудной погоде. На лицах многих женщин при этом неслыханном никогда в такое неурочное время пении Святой Пасхи текли слезы. Природа, покрытая снегом, при солнце также била в глаза и возвышенно-трогательно настраивала душу. Словом, получилась в душе дивная, чудная, одухотворенная живая картина, какую могло воссоздать в ней только свято верующее сердце христианина. В скором времени после сего (мне неизвестны повод, причина и вся вообще подробность) в Переславле красногвардейцами был застрелен священник отец Константин Снятиновский. Передавалось так: когда подошли к дому отца Константина, вечером, сколько-то человек с винтовками, он в это время читал пред иконами вечернее правило к Таинству Причащения. Здесь его арестовали и повели (говорили — в исполком), дочь же его хотела было, вышедши за ворота, сопровождать отца до места; но ей запретили, пригрозив, что пристрелят. И она воротилась. Был ли отец Константин в исполкоме, нет ли, убили ль его без суда? Не знаю, но только что в эту же ночь он был застрелен где-то на улице, а потом, будто бы еще с признаками жизни, был брошен на крыльцо больницы. Я читал по нем Евангелие при гробе в храме, куда он был принесен. На руке его была большая ссадина: не защищался ли он, когда его хотели расстрелять?
Первую весть об этом убийстве принесла мне Саша в школу, где я еще занимался Законом Божиим. Прибежала страшно взволнованная и просила меня, чтобы я тотчас же бросил занятия и пошел с ней домой. Оказалось, после она мне сказала, что была она очень напугана обо мне сложившейся кем-то сказкой, что я, арестованный, уже ранен был в руку… так ей наболтали. Ошеломленность страшная была среди народа по поводу совершенного убийства отца Константина; не выяснено — почему? За что? Говорили, что убили без суда… Всей правды и после не узнали. Но эта поспешность убийства и ошеломленностъ народа, думаю, что спасла многих нас — иереев от ареста, а может быть, и хуже. На короткое время тогда только были арестованы два священника из собора — отец Побединский и отец Красовский. В списки же, говорю по слуху, попали в числе других все те священники, которые говорили поучения во время крестного хода. Жилось мне вообще в это время тревожно. Бывало, одна встреча где-либо красноармейцев с винтовками всегда в душе у меня производила тревогу. Теперь я забросил и всякую проповедь с церковной кафедры, боясь, как бы к чему не придрались, тогда как все годы в монастыре, с осени и до самой Пасхи, всегда неизменно проповедовал слово Божие на евангельское или апостольское чтение. Один только владыка Дамиан осмеливался иногда кое-какие вопросы освещать с христианской точки зрения и выражался, надо сказать, иной раз для того времени «солоно». Например, я помню, раз он выразился так (я передаю своими словами): «Вот отняли, разграбили, обидели одних, и сами от того ничего не пополнели, как фараоновы коровы». Конечно, не нравились подобные слова, и его скоро арестовали и сослали на год с лишним в тюрьму.
Вместе с этим тревожным временем и оскудение в запасах хлеба и всякой провизии к столу начинало нас сильнее тревожить с начавшимся голодом. Правда, первое время, благодаря прежней жизненной практике, против других, привыкших жить в городе с частой покупкой свежих продуктов и хлеба с базара и в лавках, я долго держался старым запасом всего, когда многие уже бедствовали. Я всегда, бывало, заготовлял с осени ржаного хлеба до нового сбора, покупал и крупчатку мешками, сахар брал головой, также и чай никогда в запасе не переводился, масло коровье держалось пудами, привозили его из Шекшова по 20—22 копеек за фунт, варенья варилось также пуда по три-четыре за лето; и всего у меня было обильно в запасе, не исключая винных настоек и разных наливок. Но всему этому приближался конец. Помню, сколько забот у нас было первое время, когда стали во многих домах лишний хлеб отбирать. Мешки его тогда сохранялись у нас в доме под кроватью, в лежанке, зарывались и в сено. К счастью, в то время, когда голод начался, еще Господь вразумил нас посадить лишний картофель на поле. Он-то нас вот тогда и поддержал, когда сели мы в хлебе на младенческий пай. Из казенной продовольственной лавки немного доставалось мне хлебных паев, так как тогда уже, а не только сейчас (по лозунгу «братство, равенство»…), всех нас, попов, купцов, бывших чиновников царских, буржуев, — всех уравняли. Не всегда нам выдавалось из того, что получали рабочие и весь так называемый пролетариат, а когда и выходило счастье, то получали по низшему разряду, по выданным в то время всем жителям хлебным карточкам.
Но справедливость все же требует сказать «спасибо» за то, что для семьи у меня были в то время некоторые благодеяния и облегчения через то, что в семье был красноармеец Володя. По его просьбе, например, ему был отведен участок земли для разведения огорода. И так как он жил тогда вместе с нами, то и те же плоды земные, которые получались с тех гряд, шли тогда на всю семью. Потребовались ему колья огородить ту землю — и опять-таки ему, как красноармейцу, разрешено было в лесу рубить потребное количество их. Около той земли срубленные деревья, которые затеняли и мешали произрастанию насажденной овощи, дали мне около трех сажен дров. А это все очень дорого для меня стоило в те тяжелые годы. Помнится мне, сколько было положено всей семьей кровавого пота с рубкой и перевозкой на себе из леса тех кольев! Рубить? Это мной не считалось за труд. А вот возка на себе, вместо лошади, верст за пять от дома — это стоило большого физического труда и душевного гнета! Бывало, я с Сашей, а за нами, в другой паре, Лида с Володей иль Шурой, днем или ночью, иной раз и в снежную вьюгу, выбившись из сил, поднимались с возом на гору. Случалось нередко, как седоки, встречавшиеся из города или здесь на мосту отравляли мое самочувствие в большом количестве водящиеся тут ужи. Бывало, как ни пойдешь тем мостом, непременно увидишь, и не одного, как грелись они на солнце за перилами моста; подходишь, лежат, подлые, свернувшись в клубок, увидят тебя — и прямо в щели бросаются вниз. Особенно же последние дни отравил мне уж, который, поднявши вершка на полтора свою голову, плыл по воде, где мы брали себе эту воду на чай и варить себе пищу. Проклятая гадина! Так мне и припомнились прежние змеи, которых мы били иной день штук пять, или же поднимали какую, вместе с охапкой сена, на плечи. Нет гаже этого зверя! Я не могу без содрогания спокойно смотреть на эту гадину, так она, бывало, шипит на тебя и выпускает из своей глотки ядовитое жало, когда прижмешь ее граблями к земле; как противно она и ползет волнами или когда свертывается в клубок на земле! Змея! Змея и есть, проклятая! А то один год с удовольствием мы были в лесу, верст за семь — за восемь отсюда; ходили уже всей семьей срубать и пилить деревья для дров, где нам было дозволено. Напилишь мы тогда в два дня, по кубу на день, трехаршинными плахами и все березовые, из которых бы вышло восемь сажен дров. Но, к сожалению, тогда не пришлось нам воспользоваться ими: у нас их украли!
Но, слава Богу, миновались те тяжелые годы, когда ничего и нигде нельзя было достать, а особенно кто без кармана! Познаем, что все же это Бог делает к лучшему! Этим несчастием Он просветляет наш ум, смягчает черствое и злое сердце, приводит к покаянию и приближает к Себе. Одно же счастье земное? Оно нас погубит — через него черствеет душа, оно нас крепко приковывает к земле и удаляет от Бога. Почему, например, вот крестьянин больше помнит Бога и усердней к Нему, чем фабричный рабочий? Да потому, что успех в трудах крестьянина больше зависит от Бога: пошлет Бог хорошую погоду и дождь благовременный, пронесет мимо полей его грозную тучу, — тогда у него и будет успех, а до этих пор он поджидает его с упованием, с верой и молитвой к Богу. Фабричный же больше полагается на свое знание, ум: он знает, что исполнит данную работу, заказ, и беззаботно тут же получает с хозяина плату. А почему женщина набожней, чем мужчина? Да потому же, что ее положение, когда она в утробе своей носит ребенка, чаще внушает страх и опасение за жизнь в период беременности и разрешения! А ведь и народная мудрость о том говорит, что «гром не грянет, мужик не перекрестится» и что, как один поэт сказал: «чем больше страданий, тем ближе Бог» Вот, пожалуй, теперь кичливый ум человека еще больше и сильнее, чем прежде, кричит, что при помощи знания он всем может владеть и управлять, как захочет, и что одна наука без Бога весь мир перестроит в земной рай! Но еще в Ветхом Завете, скажу я, псалмопевец Давид называл такого человека безумцем: «рече безумен в сердце своем: несть Бог» (псалом 13); это пустые слова и безумные сказки: земного рая один ум человека не устроит и никогда не увидит, как не увидит человек никогда своих ушей. Да ведь и земля создана вовсе не для рая: она должна указывать только путь к раю, а этот путь никто из людей иного не выдумает, кроме того, который открыт нам Евангелием. Ныне еще и так говорят, дескать, живи, позабывши Бога, как природа велит, срывай цветы жизни! Да, правда, заманчив многим покажется этот путь жизни сначала, но каков его будет конец? Природа, без обуздания плоти — она нас приведет к такому сраму, позору и мучению совести, что и не захочешь больше на свет Божий глядеть! Один закон человеческий не сдержит его от распутства, разврата, пьянства, буйства и от других преступлений, если он не будет признавать Высшего Авторитета — Закона Бога. А давши безудержному порыву своей природы полную волю, мы увидим, что дальше уж нам некуда идти, и придем поневоле к самоубийству, что нередко и случается ныне. А безудержный разврат? — как часто мы видим и слышим, приводит теперь многих к абортам, ведь это уже равняется детоубийству! Неужели и здесь так делать матери природа велит? Еще: ныне легко так смотрят, даже малые дети, на преждевременную, невоздержную выпивку вина и вообще всякого алкоголя… Опять-таки — много зла в этой водке! Разве мы не знаем на деле, на многих примерах, как она помрачает рассудок! Что трезвый не сказал и не сделал бы, то ему при винных парах разрешимо. Ведь от вина больше бывает худых дел, чем добрых; а мы знаем, что за неволю в глотку его не вливают. Так как же теперь, спрошу я, жить по одной природе, что только ей нравится? И вот, значит, скажу я, что одна природа плохой в жизни спутник, на нее положиться нельзя, чтобы в покое и счастье прожить. Старики вот и не жили так: помнили Бога! И жизнь их была под водительством Бога куда как покойней, правдивей, честнее и чище! В ней немного найдется такого, в чем бы можно было ее упрекнуть.
Высказывая это, я, конечно, далек от той мысли, чтобы говорить в защиту невежества, предрассудков, суеверия, малограмотности прежних людей, да вот хоть и в годы жизни моей, но душа, сердце и совесть их были цельнее и выше в оценке: единства и братства в их жизни сказывалось больше, чем ныне, потому что ближе жили к Богу и в Боге; законы же Его воспитывают и облагораживают больше душу человека, а не тело. А кого больше, спрошу, и современный человек ценит: человека ли с доброй, милосердной, сочувствующей, любящей христианской душой, или же бездушного и холодного, но зато много знающего человека? Все хорошо, скажу, одно при другом, когда в сердце человека есть прежде всего Бог, а потом уже и наука и знание. Конечно, возражателей мне найдется немало, но ведь и они в учителя не годятся, как воспитанные в одном направлении и не знающие ни Писания, ни силы Божией. Нужно бы в настоящее время всем нам, колеблющимся духом, всегда иметь в памяти слова апостола Павла: «Блюдите, како опасно ходите» и что «дни лукави суть».
Много в эти годы внесло худого в религиозно-нравственную жизнь народа само духовенство. Оно-то больше всего и виновно, надо считать, в религиозной разрухе нынешнего времени. Мы сами, пастыри народа, многие оказались не на высоте своего призвания. В моей памяти первым, возмутившим тогда меня шагом падения нашего авторитета в глазах народа, в начале революции при Керенском, было поскидание с себя священнических крестов на нужды войны с Германией. Сошлись тогда выборные от каждого благочиния епархии умные головы, отцы протоиереи и иереи на общеепархиальный съезд. Заправлял, вероятно, тогда им кто-нибудь из двоих известных ныне в обновленческой церкви руководителей, или Юрьевский протоиерей Знаменский, или же, теперь епископ Струнинской фабрики, протоиерей Алексий Рождественский. На этом съезде тогда, как я раньше сказал, достойно сместили управлявшего тогда епархией архиепископа Алексия. Но кресты с себя сбросить? Это уже непохвальное дело, смущающее совесть верующего! Как будто бы не было тогда золота или серебра — денег! Сбросить, вероятно, только из-за того, что на одной стороне креста была царская корона. Но и это еще не было бы достаточным извинением их поступка! Но если по другим побуждениям? (Этот крест введен для ношения впервые в царствование низвергнутого Николая II.) Придется всему съезду сказать, что Бог в то время у них отнял разум: они были без ума непременно! У более умных людей я видел со временем ту царскую корону стертой совершенно и, вероятно, всего за пятиалтынный. Но все же, скажу, спознали тогда святые отцы свою глупость, ошибку: посылали денег на выкуп крестов.
Потом появилось обновленчество… Что оно дало народу, как не подрыв веры и религии? Опускаю уже из виду их тщеславие и властолюбие. Многие, именно из обновленцев, тогда поскидали рясы, повели пропаганду против Бога и всего святого и на публичных собраниях говорили, что все мы будто бы обманщики! Как тяжело было все это слушать всем верующим! Как глубоко оскорблялась святыня нашей души — вера, когда так бесстыдно, дерзко, кощунственно попиралась эта жемчужина, все наше упование, наше радование, наш Бог! И кем же? Моими собратьями — пастырями.
Еще сильнее, еще убийственнее действовала на меня роковая ошибка наших архипастырей, которая допускалась ими (в угоду ли властям или по другим каким недостойным побуждениям) — это скрытность от народа о действительном положении святых мощей. Но об этой святыне говорить я не намерен: не моему уму тут разбираться. Я глубоко скорблю только о том, что после этих вскрытий мощей дерзновенной рукой печать кощунственно касалась только тех святых лиц, которые осмотром найдены не в том виде, как веровал народ. 0 святых же, найденных в нетленном виде, печать или проходила совершенным молчанием, или же старалась истолковать их нетленность своими объяснениями, совершенно оставляя в стороне святость их жизни и бывшие чудеса, подтвержденные не нами (если уж нам, духовным, не верят), но самим народом, что собственно и составляет признак святости каждого святого, то есть добродетельная жизнь на земле и чудеса. Вот тут тогда особенно сильно и пошатнулась наша вера в Бога и во все святое, и пошли многие за теми лжепастырями на распутия. Но как все же, подумаешь, идет в жизни по слову Спасителя, которое вещает: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы» (Лк. 12, 2) — позабыли тогда эти слова наши архипастыри!
Кто внимательно всмотрится в свою жизнь, то непременно найдет в ней, как он сам получал ту или иную благодатную помощь, или как на глазах его подавалась она другому, по силе молитвы верующего, обращающегося к тому или иному святому, где, кажется, по нашим человеческим соображениям, и не место было явиться ей. Я хорошо помню рассказ одной добродетельной, христиански настроенной женщины, бывшей моей соседки по жизни в Рыбаках, как неоднократно она получала помощь в своих болезнях по молитвам преподобного Даниила30, к мощам которого она припадала. А в жизни нашей семьи! Помните рассказанный случай, бывший с Володей, когда мы его в коляске возили к преподобному Никите помолиться? Наконец, еще ближе, я дерзну включить в запись свой поразительный сон, который послужил началом к возвращению моего утраченного здоровья с первого года службы в Никольском. Раньше я писал в своем месте, что я не мог тогда заниматься никакой умственной работой, чтобы не вызвать тотчас ею острой головной боли, без нее тогда я не мог написать даже одного письма детям, самая пестрота печати развернутой газеты или книги у меня уже вызывала головную боль. Как, бывало, в то время я глубоко в душе своей обижался на того, когда кто всю эту болезнь считал с моей стороны простым притворством и ленью заниматься, не имея понятия о моей болезни. А это недоверие было часто и в собственной семье, должно быть, согласно слову Божию: «врази человеку домашнии его». Правда, за последние годы те головные боли стали слабее, не как в первые годы, но все же и с час я не мог заниматься своей головой. Но вот три года тому назад, летом 1924 года, вот что со мной случилось во сне. Лежу я ночью в постели и сплю. И в сонном видении вдруг ко мне явился какой-то человек, небольшого роста, и стал к своей прижимать мою голову. Когда некоторое время так вплотную держал он мою голову с своей, казалось мне, что я в это время таким сладким-сладким спал сном, каким только когда-то спал в детстве (у меня сон и теперь очень плохой, тревожный, сплю от двух с половиной до четырех часов в сутки, хотя и поздно поднимаюсь с постели). И вдруг в том сладком сне какое-то внушение мне, что это преподобный Серафим. Вслед за этим тотчас же я просыпаюсь, и хотелось бы мне опять забыться, лежу без малейшего движения, желая, не увижу ли я самый образ того человека, как это иной раз бывает, проснувшись, продолжение первого сна; но больше уснуть я уже не мог. Весь день ходил я тогда под влиянием этого сна; о нем сказал я Саше, а потом, спустя некоторое время, кому-то и из детей говорил. И порешил я тогда же сорок дней служить ему молебен с акафистом пред иконой преподобного, которая была мной привезена из Сарова, и после отпуста молебна прилагать ее к своей голове. Как надумал, так в точности и исполнил. И вот теперь какие последствия: с этой же зимы я в состоянии был заниматься чтением книг, сколько хотелось, так же и следующей зимой, а вот сейчас, на третий год, я и решился вписать на память детям в эту тетрадь все, что уцелело у меня в памяти с детских годов и что в жизни моей особо запечатлелось. Такой умственной работы я уже не проделывал более одиннадцати годов. Мне, было, уже думалось, что я до конца лет своих не в состоянии буду работать своей головой. И сейчас я никому не поверю, кто бы стал убеждать меня в том, что мне естественным путем после болезни возвратилось здоровье. Нет! Это помощь преподобного Серафима, к которому охотно я ехал в Саров пятнадцать лет тому назад сам больной и с таким же Сережей. «Верую, Господи, в помощь угодников Божиих, и помоги мне в этой вере устоять до конца!»
Все те тяжелые события описываемых годов мало давали нам еще в жизни покоя. А будущее? Не осмеливались и заглядывать, боясь, что оно принесет нам худшее. Прошел день благополучно, и слава Богу! — скажешь себе. Но все же, как говорят, чему суждено быть, того не миновать. Не миновало то и меня. Еще до закрытия монастыря, почти за год, когда неудача за неудачей следовала у отца Алексия, вследствие не сочувствия ему со стороны монастыря на открытие живоцерковного прихода, через его козни у меня был в одно время обыск в квартире, которым, конечно, ничего не обнаружилось противозаконного и контрреволюционного. Но ведь часто бывает так, когда зло возьмет особую силу, что и без вины человек пропадает…
 … А вот теперь мне, пожалуй, другие укажут на нашу собственную жизнь супругов, где случались иной раз меж нами размолвки и когда нарушался покой. Спросят: было ли тут снисхождение? Верно то, что не всегда в жизни нашей было так чисто и гладко, было в ней немало шероховатостей и нанесения обид тому или другому. А особенно вот в эти революционные годы. Революция как будто коснулась и наших отношений друг к другу. Неудачи в жизни, о которых я говорил в своих записках, не бес ли, который сидит в каждом из нас? Не постарел ли кто раньше другого, когда человек бывает брюзглив и мелочен в жизни? Или, быть может, наступила пора относиться друг к другу более правдиво и свято без всякой потачки, поблажки, что раньше прикрывалось и примирялось молодыми годами? Не знаю я, как верно сказать, но только скажу я — то верно, что много сумасбродства внесли в нашу жизнь эти годы. Иной раз ни вступив, ни сказать, ни сидеть, ни лежать — все нас не удовлетворяет, и слышны были неразумные речи. Вы, дети, конечно, нередко слыхали те разгоряченные слова того иль другого. Сумасбродны они! И надо сказать, что в минуты такого бесовства говорились те слова не поверхностно, чтобы проходили мимо ушей, не касаясь покоя, а из корня, со злом, со змеиным шипением. Щадить себя в этом сумасбродстве я не намерен, а также и обойти молчанием мне тоже не в совесть: я не буду верен себе, каким создала меня природа. Кто виноват, кто прав в том сумасбродстве — судить не мне, о том пусть скажет другой. Но, дети! Не судите нас строго: ведь мы не знаем всей жизни, как она идет у других. К тому же, я слышал, что в старости супруги и душою бывают похожи друг с другом; быть может, то последний, неминуемый каждого жизни этап?! Не забывайте и то, дорогие, что во всей прожитой жизни у нас не было бурных волнений, о которых бы знали или могли слышать соседи. Она была под водительством Бога, во всем мы старались смиряться душой пред Его неисповедимым путем. Ведь есть слова и в Писании, что «врази человеку домашнии его»; в них я нахожу объяснение к вашему возражению; этих словах Божиих мы и сами находили себе умиротворение и примирение: иначе бы зло могло шагнуть дальше в том и другом. Больше упреков из нашей жизни, думаю, что вы не предъявите к нам; во всем главном в жизни — в житейских расчетах, в планах, во взглядах, в вопросах о воспитании вас — у нас не было никогда разногласий, шли мы согласно друг с другом, взаимность во всем была безупречная. Разве в минуты раздражения того или другого, быть может, не удавалось ли слышать в речах наших сквозящий упрек? Но этот моментный упрек, при ненормальном состоянии духа, нельзя возводить в здравый смысл и в действительность.
… А вот теперь мне, пожалуй, другие укажут на нашу собственную жизнь супругов, где случались иной раз меж нами размолвки и когда нарушался покой. Спросят: было ли тут снисхождение? Верно то, что не всегда в жизни нашей было так чисто и гладко, было в ней немало шероховатостей и нанесения обид тому или другому. А особенно вот в эти революционные годы. Революция как будто коснулась и наших отношений друг к другу. Неудачи в жизни, о которых я говорил в своих записках, не бес ли, который сидит в каждом из нас? Не постарел ли кто раньше другого, когда человек бывает брюзглив и мелочен в жизни? Или, быть может, наступила пора относиться друг к другу более правдиво и свято без всякой потачки, поблажки, что раньше прикрывалось и примирялось молодыми годами? Не знаю я, как верно сказать, но только скажу я — то верно, что много сумасбродства внесли в нашу жизнь эти годы. Иной раз ни вступив, ни сказать, ни сидеть, ни лежать — все нас не удовлетворяет, и слышны были неразумные речи. Вы, дети, конечно, нередко слыхали те разгоряченные слова того иль другого. Сумасбродны они! И надо сказать, что в минуты такого бесовства говорились те слова не поверхностно, чтобы проходили мимо ушей, не касаясь покоя, а из корня, со злом, со змеиным шипением. Щадить себя в этом сумасбродстве я не намерен, а также и обойти молчанием мне тоже не в совесть: я не буду верен себе, каким создала меня природа. Кто виноват, кто прав в том сумасбродстве — судить не мне, о том пусть скажет другой. Но, дети! Не судите нас строго: ведь мы не знаем всей жизни, как она идет у других. К тому же, я слышал, что в старости супруги и душою бывают похожи друг с другом; быть может, то последний, неминуемый каждого жизни этап?! Не забывайте и то, дорогие, что во всей прожитой жизни у нас не было бурных волнений, о которых бы знали или могли слышать соседи. Она была под водительством Бога, во всем мы старались смиряться душой пред Его неисповедимым путем. Ведь есть слова и в Писании, что «врази человеку домашнии его»; в них я нахожу объяснение к вашему возражению; этих словах Божиих мы и сами находили себе умиротворение и примирение: иначе бы зло могло шагнуть дальше в том и другом. Больше упреков из нашей жизни, думаю, что вы не предъявите к нам; во всем главном в жизни — в житейских расчетах, в планах, во взглядах, в вопросах о воспитании вас — у нас не было никогда разногласий, шли мы согласно друг с другом, взаимность во всем была безупречная. Разве в минуты раздражения того или другого, быть может, не удавалось ли слышать в речах наших сквозящий упрек? Но этот моментный упрек, при ненормальном состоянии духа, нельзя возводить в здравый смысл и в действительность.
«Вот, отец Алексий, прощаясь с тобой, куда я метнулся! Метнулся в свою грешную жизнь, в которой и тебя осуждал, — прости мне за это! Не поминай меня лихом, что в жизни не сошелся с тобой. Свои отношения к тебе, насколько мог, старался все же соизмерять и освещать Евангельским светом, вооружаясь терпением, снисхождением и кротостью. Сдержанность эту я видел и в тебе, а по тому самому мы в жизни с тобой почти никогда не ссорились. Никто нас не видал и не слыхал пришедшими в открытый азарт или гнев. Бываю я иногда на месте твоего земного упокоения — знай, что не пройду я мимо могилки твоей, чтобы не помянуть тебя на молитве, осеняя крестом и желая душе твоей мира. Записан ты у меня и в пожизненный синодик наряду со всеми погребенными мной, с первого года священства, как я обет себе дал делать так и поминать, когда я свободен в обеднях. Записаны у меня в синодик тот все, кроме младенцев, кого хоронил в своих храмах, Спи же покойно, почивший собрат, до будущего свидания в твоей новой жизни, куда ты раньше меня отошел. Блажен ты теперь уже тем, что перешел чрез рубеж земной, меня же он страшит и тревожит, так как крепко прикован к земле и живу еще больше земными мечтами, мало готовясь к переходу в ту жизнь. Но будь над всеми воля Господня, да будет всем нам и милость Его, спасающая и охраняющая нас от всех бед, скорбей и грехов, дарующая мирную кончину жизни нашей, а там — в Царствии Божием — упокоение».
С 1924 года 7/20 апреля я уже стал значиться по счету на третьем приходе того же города. В тех своих видах, как бы за малочисленностью прихожан не закрылась Благовещенская церковь и мне снова не оказаться без места, я изъявил свое желание одновременно быть священником и